Борис Чичибабин:
«А мне, как ветру,
мало мастерства»
(1923–1994)
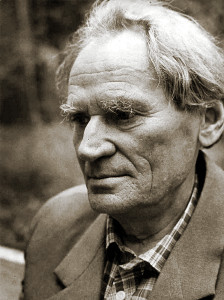 Поэт-шестидесятник, лауреат Государственной премии СССР (1990). Настоящая фамилия — Полушин. Родился в Кременчуге, жил в Харькове. На протяжении трёх десятилетий был одним из самых известных и любимых представителей творческой интеллигенции города (1950-е — 1980-е годы). С конца 50-х годов его стихотворения в рукописях широко распространялись по всей стране. Официальное признание пришло к поэту только в конце жизни, в годы перестройки.
Поэт-шестидесятник, лауреат Государственной премии СССР (1990). Настоящая фамилия — Полушин. Родился в Кременчуге, жил в Харькове. На протяжении трёх десятилетий был одним из самых известных и любимых представителей творческой интеллигенции города (1950-е — 1980-е годы). С конца 50-х годов его стихотворения в рукописях широко распространялись по всей стране. Официальное признание пришло к поэту только в конце жизни, в годы перестройки.
Борис Чичибабин воспитывался в семье офицера, окончил школу на родине Репина — в Чугуеве Харьковской области. Его псевдоним взят в честь двоюродного деда со стороны матери, академика Алексея Евгеньевича Чичибабина, выдающегося учёного в области органической химии и одного из первых советских «невозвращенцев». В 1940 г. Борис начал учёбу на историческом факультете Харьковского университета, но в начале войны был призван в армию и служил на Закавказском фронте.
В 1945 г. поступил на филологический факультет ХГУ, но уже в июне 1946 г. был арестован и осуждён на 5 лет лагерей «за антисоветскую агитацию». Предположительно, причиной ареста были стихи — крамольная скоморошья попевка с рефреном «Мать моя посадница», где были, например, такие строки:
Пропечи страну дотла,
Песня-поножовщина,
Чтоб на землю не пришла
Новая ежовщина!
В тюрьме Чичибабин написал «Красные помидоры», а в лагере — «Махорку», два ярких образца «тюремной лирики». Эти стихи, положенные на музыку актёром и певцом Леонидом («Лешкой») Пугачевым, широко разошлись по стране:
 Школьные коридоры,
Школьные коридоры,
тихие, не звенят…
Красные помидоры
Кушайте без меня.
Уже в 50-е годы, после возвращения из лагерей, намечаются основные темы поэзии Чичибабина. Это, прежде всего, гражданская лирика, «новый Радищев — гнев и печаль» которого вызывают «государственные хамы», как в стихотворении 1959 г. «Клянусь на знамени весёлом» («Не умер Сталин»).
К ней примыкает редкая в послевоенной поэзии тема сочувствия угнетённым народам советской империи — крымским татарам, евреям, «попранной вольности» Прибалтики — и солидарности с ними («Крымские прогулки», «Еврейскому народу»). Эти мотивы сочетаются у Чичибабина с любовью к России и русскому языку, преклонением перед Пушкиным и Толстым («Родной язык»), а также с сыновней нежностью к родной Украине:
У меня такой уклон:
Я на юге — россиянин,
А под северным сияньем
Сразу делаюсь хохлом.

|
|
Борис Чичибабин и Евгений Евтушенко.
Харьков, 1989 год |
В начале 60-х, на волне массового увлечения поэзией, Чичибабин с успехом читает стихи на поэтических вечерах, ведёт литературную студию. Из печати выходят четыре сборника его стихов. Однако цензурный гнёт, вместе с органически присущей Чичибабину установкой на демократичность и его не изжитым в ту пору революционным романтизмом, привели к тому, что в этих книгах оказалось немало стихов, звучавших декларативно, вполне в духе официоза. В 1968 году, после вторжения в Чехословакию, даже само название сборника «Плывёт Аврора» отталкивало читателей.
Такая потеря индивидуальности привела Чичибабина к глубокому духовному кризису («…Уходит в ночь мой траурный трамвай»):
Я сам себе растлитель и злодей,
и стыд, и боль как должное приемлю,
за то, что всё придумывал — людей и землю.
А хуже всех я выдумал себя…
Выход наметился, когда поэт встретил свою настоящую любовь («Сонеты к Лиле»). «Уход из дозволенной литературы… был свободным нравственным решением, негромким, но твёрдым отказом от самой возможности фальши». Чичибабин возвращается к работе экономистом «в трамвайном управлении», пишет для себя и для друзей. Его темами остаются любовь, природа, книги. В начале 70-х Чичибабин мучительно переживал эмиграцию своих друзей, благословляя их, а не осуждая:
Дай вам Бог с корней до крон
без беды в отрыв собраться.
Уходящему — поклон.
Остающемуся — братство.

|
|
Молига Бориса Чичибабина
|
В 1973 г., после появления сборника в самиздате и публичного чтения резкого стихотворения о «воровских похоронах» Твардовского, Чичибабина исключают из Союза писателей. Его ответ таков:
Нехорошо быть профессионалом:
Стихи живут, как небо и листва.
Что мастера? — Они довольны малым.
А мне, как ветру, мало мастерства.
Благодаря прямоте и отсутствию фальши, поэзия Чичибабина в 70-е — 80-е годы становится известна интеллигенции и за пределами Харькова. В годы перестройки его стихи зазвучали злободневно, насущно, их активно печатают газеты и журналы, выходят итоговые неподцензурные сборники. В 1990 г. за книгу «Колокол» поэт удостоен Государственной премии СССР. Чичибабин участвует в работе общества «Мемориал», даёт интервью, выезжает в Италию, в Израиль.
Но принять результаты перестройки поэту оказалось непросто. Его «стихи обходят с неприязнью барышника и торгаша». Чичибабин, которому были «думами близки» и «Россия с Украиной», и «прибалтийской троицы земля», и «Армения — Божья любовь», не смог смириться с распадом Советского Союза, отозвавшись на него исполненным боли «Плачем по утраченной Родине».
«Борис давно понял своё предназначение поэта и следовал ему до конца дней». (Булат Окуджава)
Похороны Бориса Чичибабина в декабре 1994 г. в Харькове были многолюдны. На улице в центре города, названной в его честь, сооружена мемориальная доска со скульптурным портретом.
* * *
Уходит в ночь мой траурный трамвай.
Мы никогда друг другу не приснимся.
В нас нет добра, и потому давай
простимся.
Кто сочинил, что можно быть вдвоём,
лишившись тайн в пристанище убогом,
в больном раю, что, верно, сотворён
не Богом?
При желтизне вечернего огня
как страшно жить и плакать втихомолку.
Четыре книжки вышло у меня.
А толку?
Я сам себе растлитель и злодей,
и стыд, и боль как должное приемлю
за то, что всё придумывал — людей
и землю.
А хуже всех я выдумал себя.
Как мы в ночах прикармливали зверя,
как мы за ложь цеплялись, не любя,
не веря.
Как я хотел хоть малое спасти.
Но нет спасенья, как прощенья нету.
До судных дней мне тьму свою нести
по свету.
Я всё снесу. Мой грех, моя вина.
Ещё на мне и все грехи России.
А ночь темна, дорога не видна…
Чужие…
Страшна беда совместной суеты,
и в той ничто беде не помогло мне.
Я зло забыл. Прошу тебя: и ты
не помни.
Возьми все блага жизни прожитой,
по дням моим пройди, как по подмостью.
Но не темни души своей враждой
и злостью.
1967
ВЕРБЛЮД
Из всех скотов мне по сердцу верблюд:
Передохнет — и снова в путь, навьючась.
В его горбах угрюмая живучесть,
века неволи в них ее вольют.
Он тащит груз, а сам грустит по сини,
он от любовной ярости вопит,
Его терпенье пестуют пустыни.
Я весь в него — от песен до копыт.
Не надо дурно думать о верблюде.
Его черты брезгливы, но добры.
Ты погляди, ведь он древней домбры
и знает то, чего не знают люди.
Шагает, шею шепота вытягивая,
проносит ношу, царственен и худ, —
песчаный лебедин, печальный работяга,
хорошее чудовище верблюд.
Его удел — ужасен и высок,
и я б хотел меж розовых барханов,
из-под поклаж с презреньем нежным глянув,
с ним заодно пописать на песок.
Мне, как ему, мой Бог не потакал.
Я тот же корм перетираю мудро,
и весь я есть моргающая морда,
да жаркий горб, да ноги ходока.
1964
* * *
И вижу зло, и слышу плач,
и убегаю, жалкий, прочь,
раз каждый каждому палач
и никому нельзя помочь.
Я жил когда-то и дышал,
но до рассвета не дошел.
Темно в душе от божьих жал,
хоть горсть легка, да крест тяжел.
Во сне вину мою несу
и — сам отступник и злодей —
безлистым деревом в лесу
жалею и боюсь людей.
Меня сечет господня плеть,
и под ярмом горбится плоть, —
и ноши не преодолеть,
и ночи не перебороть.
И были дивные слова,
да мне сказать их не дано,
и помертвела голова,
и сердце умерло давно.
Я причинял беду и боль,
и от меня отпрянул Бог
и раздавил меня, как моль,
чтоб я взывать к нему не мог.
1968
* * *
С Украиной в крови я живу на земле Украины,
и, хоть русским зовусь, потому что по-русски пишу,
на лугах доброты, что её тополями хранимы,
место есть моему шалашу.
Что мне север с тайгой, что мне юг с наготою нагорий?
Помолюсь облакам, чтобы дождик прошёл полосой.
Одуванчик мне брат, а еще молочай и цикорий,
сердце радо ромашке простой.
На исходе тропы, в чернокнижье болот проторённой,
древокрылое диво увидеть очам довелось:
Богом по лугу плыл, окрылённый могучей короной,
впопыхах не осознанный лось.
А когда, утомлённый, просил: приласкай и порадуй,
обнимала зарёй, и к ногам простирала пруды,
и ложилась травой, и дарила блаженной прохладой
от источника Сковороды.
Вся б история наша сложилась мудрей и бескровней,
если б город престольный, лучась красотой и добром,
не на севере хмуром возвёл золочёные кровли,
а над вольным и щедрым Днепром.
О земля Кобзаря, я в закате твоём, как в оправе,
с тополиных страниц на степную полынь обронён.
Пойте всю мою ночь, пойте весело, пойте о славе,
соловьи запорожских времён.
1975
Опубликовано: 27/11/2009