Религия и идеология
[1] [2] [3]
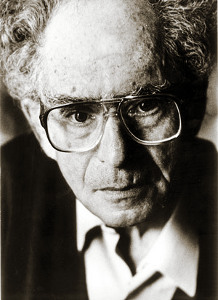 Что такое религия и чем она отличается от идеологии, в том числе от идеологии ненависти? Прежде чем попытаться дать определение, я хотел бы отчетливо разделить на живом и памятном вам примере религию Иова и религию друзей Иова. Иов ничего не знает. Он не может понять мира. Он не может принять этого мира без Бога — мира страданий, мира мучений, мира разлада. Он кричит до тех пор, пока не услышит голос Бога в самом себе. Можно это описать в других терминах. Это вглядывание в ужас мира, мира без вечности, мира без духовного начала — пока не переживешь реальность вечности, реальность Святого Духа. С этой точки зрения религия есть опыт Вечности. Вера же друзей Иова не основана на непосредственном опыте. Она основана на опыте других, который оставил след в Писании и который благочестиво усвоен. Здесь сталкивается живая вера и катехизис как свод того, что положено думать о последних вопросах бытия.
Что такое религия и чем она отличается от идеологии, в том числе от идеологии ненависти? Прежде чем попытаться дать определение, я хотел бы отчетливо разделить на живом и памятном вам примере религию Иова и религию друзей Иова. Иов ничего не знает. Он не может понять мира. Он не может принять этого мира без Бога — мира страданий, мира мучений, мира разлада. Он кричит до тех пор, пока не услышит голос Бога в самом себе. Можно это описать в других терминах. Это вглядывание в ужас мира, мира без вечности, мира без духовного начала — пока не переживешь реальность вечности, реальность Святого Духа. С этой точки зрения религия есть опыт Вечности. Вера же друзей Иова не основана на непосредственном опыте. Она основана на опыте других, который оставил след в Писании и который благочестиво усвоен. Здесь сталкивается живая вера и катехизис как свод того, что положено думать о последних вопросах бытия.
Религия в буквальном переводе означает связь. Здесь есть два смысла. Основной смысл, по-моему, означает связь с вечностью. Есть религии, которые не употребляют термина Бог, но, во всяком случае, они всегда на своей высшей точке означают опыт связи с чем то, что по существу целостно и вечно, хотя иногда описывается в отрицательных терминах, скажем: «Есть, о монахи, нечто неставшее, нерожденное, несотворенное, ибо, если бы не было неставшего, несотворенного — где бы было спасение от мира ставшего, рожденного и сотворенного?» Так или иначе, это опыт соприкосновения с чем то, что не укладывается в наши понятия и что придает жизни смысл. И когда величайший страдалец доходит до этого смысла, он способен возродиться и восстать со своего одра. Но, кроме того, религия — некий общий путь познания этого вечного, божественного, Бога, и община людей, идущих этим путем, и связь людей, принявших некий общий путь познания вечности, утверждения в чувстве вечности.
Со вторым смыслом связано другое понятие, которым мы в сущности выражаем иногда то же самое. Мы говорим: вера. Можно сказать: христианская религия и христианская вера. Вера и религия — иногда это синонимы. Но вера означает здесь доверие тем людям, которые имели этот великий опыт, придающий жизни непосредственный смысл. Например, один из величайших святых, Силуан Афонский, говорит в своих записках: «Я не верую, я знаю». У него было столько состояний благодати, что возникло чувство такого же знания, непосредственного переживания духовного начала мира, как, допустим, я пальцами чувствую кафедру. А вера есть отношение людей, которые сами этого драгоценного опыта, во всяком случае, во сколько-нибудь полном объеме, не имели. Она означает, прежде всего, доверие святым, пророкам, доверие Христу. Скажем, у Достоевского есть такая формула: «Если бы как-нибудь оказалось, что Христос вне истин, то я бы предпочел бы остаться с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа». То есть Христу Достоевский верит больше, чем разуму в его поисках истины. Это вот религия как вера. Но есть другой поворот веры, более, быть может, тонкий и труднее уловимый. Дело в том, что наше восприятие многослойно, наша психика очень многослойна. Есть некий грубый уровень, на котором мы общаемся с миром вещей, и есть иногда более тонкие душевные движения, в которых мы постигаем гораздо более высокое. И значение веры еще и в этом: это доверие более тонкому и более глубокому в самом себе, может быть, только изредка в нас мелькающему, но мы угадываем, что оно истиннее, чем наше обычное непосредственное чувство. Хотя и то тоже непосредственно. Достоевский в романе «Идиот» говорит о явлении двойных мыслей. Суть его заключается в том, что мы задумываем какое-то благородное дело, но одновременно к этому примешивается какая-нибудь подленькая мысль вроде: «А какая мне от этого будет выгода?» Та или другая многослойность присутствует почти во всякой психике. Чтобы сделать мысль немного конкретнее, я вспомню один смешной анекдот об этике. Отец с сыном идут, и сын спрашивает: «Папа, что такое этика?». Папа говорит: «Представь себе, идет по дороге человек и роняет кошелек». «Ага, — говорит сын, — значит, нужно подобрать кошелек и отдать его». «Нет, — говорит отец, — кошелек нам самим пригодится. Но есть какая-то минуточка, когда хочется отдать кошелек владельцу. Вот эта минуточка и есть этика». Так вот это высшее часто является каким-то дуновением, которое страсти захлестывают, и вера есть также доверие более тонкому слою в самом себе, тому слою, в котором душа переходит в дух.
Вы знаете, что в Евангелии просто душа противопоставляется телу, а у апостола Павла есть троичное деление: тело, душа и дух. Но нельзя дух считать чем-то совсем вне души. Во всяком случае, в человеке дух не проявляется вне души. Где-то в глубине души есть та область, в которой душевное переходит в духовное. И вот вера есть доверие духовному в нашем душевном движении. Душевным может быть и ненависть, ярость, зависть — все это душевные качества. Но где-то в глубине есть какой-то более чистый слой. И вера есть установка на этот высший слой в себе.
Итак, религия есть связь с тем, что дает жизни смысл. Это есть доверие к пережившим это. И это практика, раскрывающая глубинные слои души. В каждой религии это обычно свой какой-то набор. Но, так или иначе, это какое-то делание, которое направлено к тому, чтобы усилить тот глубинный слой в человеке, тот духовный слой, благодаря которому сказано, что человек создан по образу и подобию Божьему. Это может быть собственно религиозная практика в узком смысле: молитва, обряды, таинства, присутствие на литургии, если взять христианские термины, но это также и правильное поведение, и правильное мышление. И вот тут часто нарушается равновесие. В свое время, в конце XIX века, Лев Толстой протестовал против обрядоверия. И просто отмел всякую обрядовую сторону христианства, противопоставляя ему чистую этику Евангелия. Эта была крайность, которая вызвала другую крайность. Как правило, русское религиозное возрождение делает акцент на восстановлении боли тех действий, которые углубляют в человеке чувство духовного. Потому что без этого чувства чистая мораль остается словами, держится, так сказать, ни на чем, и ее трудно передать убеждением.
Процитирую Федотова: «В борьбе с обезбоженной моралью русская православная мысль пыталась создать религию без морали. Как это было возможно и что из этого вышло? Поставив средоточием религиозной жизни молитву и таинства, русское церковное возрождение воссоздало истинную иерархию, но восстановило ее лишь в центре. (То есть в центре иерархии). Федотов согласен: это какое-то делание, направленное к тому, чтобы углубить, развить, возродить духовное начало в человеке. Потом уже из этого вырастает все остальное». Отправляясь от этого центра, каково будет строение всей религиозной жизни, а, следовательно, и культуры? Вот основной вопрос русского будущего», — пишет он. И чрезвычайно важно, чтобы существовала не только ортодоксия, но и ортопраксия, чтобы человек, который признал истину духовного пути, соответствовал в какой-то мере этой истине в своем повседневном поведении, на бытовом уровне. Федотов подчеркивает, что искусство, философия в активной своей форме (как творчество) доступны только немногим. Для них это, конечно, может быть основной путь. Александр Владимирович Мень следовал этому, когда сказал, что для христианского художника его искусство и есть его молитва. Но это путь тех, кто обладает специфическим талантом. А нравственный подвиг доступен каждому. И Федотов говорит: «Вот почему в Евангелии Христос так много говорит о том, как относиться к ближнему, и ничего не говорит, как писать стихи или заниматься математикой». Вот этот нравственный покров в значительной степени подчеркивается не вселенской церковью, а разными вариантами протестантизма. И в быту баптисты и адвентисты чище, нравственней. Там акцент делается на том, что непосредственное поведение и есть служение Богу.
Макс Вебер считает, что современное общество есть следстие протестантской этики, которая осознала практическаую бытовую жизнь как основной путь служения. Во всем этом есть своя односторонность, но тем не менее, если нам говорить о том, чего нам не хватает здесь-то не хватает такого служения в миру, понимания того, что Истина, Добро и Красота, если воспользоваться античным пониманием культуры, — они неразрывны в своей сути. Опять процитирую Федотова, он очень хорошо это выразил, говоря о плодах имморализма, который распространяется в конце XIX века: «Где-то развенчали мораль, а на земле миллионы людей гниют в лагерях смерти. Еще один выстрел на небе, — а здесь станут сажать на кол». То есть всякий разрыв между истиной, добром и красотой или в рамках христианской культуры между жизнью обрядов и таинств и непосредственной бытовой этикой приходит к возможности глубокого извращения всей культуры и создает брешь, через которую входит жестокость и насилие.
Религия, по идее — целостность, но, как и все в мире, эта целостность дифференцируется. Собственно, цельными в полной мере были только примитивные культуры. Это их безусловное достоинство. И в этом прелесть так называемых дикарей. Вся их культура помещается у них в голове. Нет десяти миллионов томов библиотеки и нет разрыва между человеком и его культурой. И религиозный аспект их культуры тоже принадлежит каждому. В своих обрядах, плясках они все как-то непосредственно переживают, а не только слышат от других, что-то есть. И они цельнее в своей, хотя и примитивной, вере. Но зато в эту веру может входить и человеческое жертвоприношение, и людоедство, и всякие другие демонические сдвиги, которые постепенно в развитии высоких религий преодолевались. Но в ходе дифференциации растет не только добро, но и зло. В ходе дифференциации культуры на одном полюсе обожение доходит до личности Христа, а на другом полюсе демонизация доходит до того образа Иуды, как отвратительного предателя, какого рисует Евангелие. Я говорю не об историческом Иуде, который, может быть, был просто человеком, который ошибся, думал, что он подтолкнет чудо своим предательством. Судя по тому, что он покончил с собой, он совсем не расчитывал на то, что случилось. Я говорю о том противопоставлении, которое возникло уже в Евангелии как своего рода словесной иконе. Это противопоставление мудро, потому что оно показывает, что, переходя от дикости к цивилизации, человечество не только что-то приобретает, но и теряет. В дифференциации мы выращиваем не только добро, но и зло. И в ходе этого возникает возможность отрыва отдельных аспектов религии и превращение их в самостоятельную силу.
И вот катехизис, оторвавшись от религиозного целого, становится катехизисом революционера. Если я не ошибаюсь, так назывался текст, сочиненный Нечаевым. Так возникает идея большевистской партии как ордена меченосцев. Это идея Сталина. Так возникает красная книжечка председателя Мао Цзедуна. В XVIII веке был такой цитатник из сочинений Конфуция, составленный по указу императора, который наизусть усваивался всем китайским народом. Правда, я не могу сказать, до какой степени это религия, до какой — политика, но обычно Конфуция мы рассматриваем в контексте истории религии. А у Мао Цзедуна это приобретает новый смысл в контексте тоталитарной пропаганды. Это очень любопытный и важный путь, ведущий к возникновению идеологии — по крайней мере, революционной идеологии. Хотя основной путь к идеологии другой. Основной путь к идеологии скорее уходит корнями в философию, и в своих либеральных вариантах идеология ближе к философии. Собственно идеология возникает поздно. Существует предрассудок, что идеология существовала всегда. Даже я помню такую глупую фразу в одной брошюре, что Гомер, покорясь реакционной идеологии, что-то там не так изображал…
Говорят о религиозной идеологии… Это сапоги всмятку. Конечно, может быть идеологизированная религия (например, у Хомейни), но религия и идеология — это просто разные вещи. Причем любопытно: эта четкая мысль была мною высказана в 87-ом году в «Гласности», потом в 88-ом — в рецензии о японских стихах, которую я напечатал в «Новом мире», — что идеология и религия — это совсем не одно и то же. А потом я, следя за прессой, выяснил, что примерно ту же мысль провела в одном реферате Раднянская, на нее сослался потом сочувственно Шрейдер, и наконец, когда на том круглом столе, о котором я сегодня говорил, я столкнулся опять с тем, что один из участников употребляет слово «идеология» как универсалию мировой истории, — я возразил и повернулся к Сергею Сергеевичу Аверинцеву и сказал: «Вы что думаете?» И он ответил: «Ну, конечно же, она возникает примерно в XVIII веке». И я тоже так думаю. И все мы, не сговариваясь, заговорили о том, что идеология имела начало совсем недавно. Я думаю, что это связано с тем, что именно в 87-м, 88-м, 89-м годах запахло концом тоталитарной идеологии. А когда что-то приходит к концу — возникает мысль, а когда же это началось? И как-то само собой, не сговариваясь, мы пришли к тому, что в основном это сложилось в XVIII веке.
Каким образом это получилось? Идеология — это популярная философия, доступная широким кругам, которая способна оттеснить и, по представлениям многих идеологов, вообще совершенно заменить религию. Наиболее массовые формы, однако, возникают на стыке двух упрощений, то есть на стыке упрощенной до катехизиса религии и философии, отказавшейся от глубины.
[1] [2] [3]
Опубликовано: 09/09/2012