Разоблачающая правда о французском и русском «богословии иконы»
 Ирина Николаевна Горбунова-Ломакс — основательница первой в Западной Европе регулярной иконописной школы с 4-летним курсом обучения. Созданное в 2005 г. с благословения Архиепископа Брюссельского и Бельгийского Симона, это учебное заведение объединяет в одной мастерской коренных жителей Европы и русских эмигрантов, мирян и монахов, православных различных юрисдикций и католиков.
Ирина Николаевна Горбунова-Ломакс — основательница первой в Западной Европе регулярной иконописной школы с 4-летним курсом обучения. Созданное в 2005 г. с благословения Архиепископа Брюссельского и Бельгийского Симона, это учебное заведение объединяет в одной мастерской коренных жителей Европы и русских эмигрантов, мирян и монахов, православных различных юрисдикций и католиков.
Ирина Горбунова-Ломакс окончила Луганское художественное училище и Петербургскую Академию художеств. Художник (в том числе иконописец) и искусствовед. Регулярно принимает участие в выставках в России и Западной Европе, начиная с 1987 г. Вначале — как живописец и график, затем — как иконописец. Училась иконописанию в мастерской матушки Юлии Большаковой при Успенском приходе г. Кондопоги (Карелия). С 2003 г. постоянно живёт в Бельгии. Замужем за англичанином, диаконом Русской Православной Церкви.
В 2009 году увидела свет первая книга Ирины Николаевны «Икона: правда и вымыслы», вызвавшая в иконописной среде мощный резонанс. И вот, спустя три года, в том же издательстве «Сатисъ» выходит новый труд Горбуновой-Ломакс — «Опыт введения в христианское искусствознание». В связи с этим мы решили поговорить с нашей землячкой о ее книге и о многом другом.
«Приятно, что моя книга пользуется спросом, но я бы предпочла, чтоб никто не нуждался в моей помощи для ниспровержения мифов об иконе»
— Ваша первая книга вызвала неоднозначную реакцию, были даже довольно негативные отзывы. Вас обвиняли в потрясении основ и посягательстве на незыблемое учение об иконе, изложенное в известной книге Леонида Успенского, вышедшей в свет примерно полвека тому назад в Париже и с тех пор, по умолчанию, имеющей статус официальной церковной доктрины. Интересно, что негатив, в основном, представлял собой рефлексию без серьезной аргументации. Чем Вы можете объяснить это неприятие?
 — Рискуя Вас удивить, я скажу, что всё наоборот — отзывы были как раз позитивные. Я прекрасно понимала, что книга острая, и публикация её была бы совершенно невозможна без достаточного числа позитивных отзывов компетентных лиц. Рукопись была разослана более чем десяти видным богословам и иконописцам Москвы, Санкт-Петербурга и Парижа, и практически все они устно или письменно отозвались о книге наилучшим образом.
— Рискуя Вас удивить, я скажу, что всё наоборот — отзывы были как раз позитивные. Я прекрасно понимала, что книга острая, и публикация её была бы совершенно невозможна без достаточного числа позитивных отзывов компетентных лиц. Рукопись была разослана более чем десяти видным богословам и иконописцам Москвы, Санкт-Петербурга и Парижа, и практически все они устно или письменно отозвались о книге наилучшим образом.
Из Свято-Сергиевского богословского института я тоже получила скорый и очень благоприятный ответ — правда, не от отца Николая Озолина, а от ректора института — отца Николая Цернокрака. Мне было очень приятно узнать, что даже в самом оплоте «богословия иконы» учение Л. Успенского далеко не всеми принимается за святоотеческое.
Негативный отзыв был, собственно, один — статья на «Русской линии», появившаяся практически в день выхода книги из печати, и последовавшее затем «обсуждение» статьи лицами, которые книгу заведомо не читали, ибо она ещё не поступила в продажу.
На вопрос, чем я могу объяснить чьё-то неприятие того или иного моего текста или чьи-то нападки без серьёзной аргументации, адресованные не читавшей книгу аудитории, мне трудно ответить, не задевая нравственных и умственных качеств нападавших. Поэтому я воздержусь от таких объяснений, да и много ли в них толку? Особенно теперь, спустя три года после выхода книги. Это уже неактуально. Книга прочитана, востребована, стала библиографической редкостью.
За отчётный период не появилось ни одного негативного отзыва. Мало того, теперь мне уже случается выслушивать упрёки в том, что я слишком нежно обошлась с «парижским богословием иконы», была излишне осторожна и корректна. Что же, такие упрёки меня только радуют.
Я бы хотела, чтоб книга «Правда и вымыслы» как можно скорее устарела. Вот такой парадокс — мне, как автору, приятно, что книга пользуется спросом и читается на одном дыхании, но, по большому счёту, я бы предпочла, чтоб никто не нуждался в моей помощи для ниспровержения мифов об иконе. То есть, чтобы этих мифов попросту уже не было.
«Термин „парижское богословие иконы“ прошу заключать в кавычки, поскольку это не богословие вовсе, а всего лишь дурное искусствоведение»
— Какова основная проблема парижского богословия, на Ваш взгляд?
— Не проблема, а ошибка. И термин «парижское богословие иконы» прошу заключать в кавычки, поскольку это не богословие вовсе, а всего лишь дурное искусствоведение. Так вот, главная ошибка в том, что эта псевдонаука не имеет даже определения своего предмета.
Всё в этом «богословии» как бы подразумевается по умолчанию — и то, что икона не есть искусство (а что такое, кстати, искусство?), и то, что икона — это только восточный феномен (тут вовсе очень смешные вещи получаются с границами государств и художественных школ), и то, что икона должна быть написана только в «византийском стиле» (определения которого опять же нету, как, впрочем, и доказательств этого долженствования).
В результате, понятие «икона» не только не сделалось более ясным, но затуманилось гораздо больше, чем сто лет назад. Плоды такого «богословия» налицо: под именем иконы сейчас на Востоке и Западе предлагаются к молитвенному созерцанию художественные феномены, совершенно немыслимые в «до-Успенскую» эпоху и несомненно более душевредные, чем столь ненавистные парижским романтикам работы Неффа или Васнецова.
 — Почему Вы называете представителей «парижского богословия иконы» романтиками?
— Почему Вы называете представителей «парижского богословия иконы» романтиками?
— А как же их ещё называть? Вдруг вспыхнувший на фоне всем прискучившего академического искусства интерес к национальному средневековью — это и есть романтизм. Западная Европа пережила свой романтический период гораздо раньше России. Плоды этого увлечения зачастую были очень достойным вкладом в сокровищницу священного образа — настолько, что и теперь производят очень живое, тёплое впечатление и располагают к молитве.
В Великобритании, например, этот возврат к средневековой образности, стилистике и иконографии произвёл в последней трети XIX в. потрясающий переворот в декорации храмов — впервые за несколько столетий, минувших с английской Реформации, крупномасштабная икона Христа вновь вернулась на почётное место в храме.
В России, к сожалению, открытие своей средневековой иконы почти совпало с известными событиями, которые насильственно пресекли вообще всякое развитие русского церковного искусства. То есть наш «религиозный романтизм» — мало того, что до смешного запоздал, по сравнению с западным, — был поставлен, едва зародившись, в условия маргинальности, дилетантизма и изоляции.
Чахлые плоды этого плачевного стечения обстоятельств мы продолжаем пережёвывать до сих пор. Во всяком случае, в теории. К счастью, практика современного иконописания в России и других православных странах скорее радует — в своих отдельных лучших представителях, продолжающих подлинную художественную традицию Церкви из неё самой, из этой художественной традиции, а не из неудачных умствований вокруг оной.
«Немало представителей церковной интеллигенции, включая (вообразите себе) иконописцев, просто никогда не читали авторов учений об иконописи»
— Чем можно объяснить устойчивость мифов за авторством Трубецкого, Флоренского, Успенского в церковной интеллигентской среде?
— Вот, опять Вы меня вынуждаете отыскивать глубинные истоки заблуждений ближнего моего. Но, поскольку здесь речь идёт о вещах очевидных, отвечу, что в лучшем случае причиной является лень и непривычка к строгому логическому мышлению, а в худшем — увы, оккультные наклонности.
И добавлю ещё одну важную вещь. Немало представителей церковной интеллигенции, включая (вообразите себе) иконописцев, просто никогда не читали указанных авторов или начали читать и бросили на полдороге, не осилили, или, убаюканные высоким штилем, не стали особо вникать и проверять критически — и знают этих авторов просто как «громкие имена, важные вехи, наше всё».
Такой церковный интеллигент способен искренне возмущаться дурным качеством среднестатистической русской иконописи, узколобостью и безграмотностью своего заказчика или, скажем, тупостью своего оппонента в споре об иконе, но не знать, откуда ноги растут у этой безграмотности и тупости. Ему невозможно поставить знак равенства между расхожей пошлостью, услышанной от рядового прихожанина, и снабженным примечаниями и библиографией солидным трудом в твёрдом переплёте с золотом, который непременно стоит у него на полке и который ему вот уже двадцать лет как недосуг прочесть.
— Несколько слов о новой книге — это продолжение «Правды и вымыслов» или это нечто совершенно новое?
 — В каком-то смысле «Опыт введения в христианское искусствознание» действительно можно назвать продолжением «Правды и вымыслов». Но более точно отношения между ними определяются как отношения между апофатическим (в первой книге) и катафатическим (во второй) подходом к христианскому искусству.
— В каком-то смысле «Опыт введения в христианское искусствознание» действительно можно назвать продолжением «Правды и вымыслов». Но более точно отношения между ними определяются как отношения между апофатическим (в первой книге) и катафатическим (во второй) подходом к христианскому искусству.
«Правда и вымыслы» — книга о том, как нельзя писать и мыслить об иконе, а «Опыт введения» — книга о том, что христианин через икону, сквозь икону смотрит на всё искусство вообще, проверяя иконой, как камертоном, любое и всякое художественное явление, историческое или современное.
«Какой традиции следует художник и почему он ей следует. Потому, что она технически доступна, или потому, что она наилучше передаёт то, что ему хочется высказать о своём опыте богопознания?»
— Сейчас среди современных иконописцев мы видим ряд противоположных мнений относительно развития иконописи. В одном случае, иконописцы воспроизводят тот или иной исторический стиль. В другом, наблюдается декларативное отрицание традиции и попытка написать некую «новую» икону. Как можно разрешить этот конфликт? Какой, по Вашему мнению, должна быть современная икона?
— Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, я и написала «Опыт введения в христианское искусствознание». Книга имеет вполне отчётливую практическую цель — дать зрителю-христианину терминологию и ориентиры для суждения об искусстве вообще, о современном искусстве в частности и, конечно, о современной иконе в первую очередь. Суждения как о стилистической, так и об антропологической составляющей священного образа, поскольку стиль сам по себе ещё ничего не определяет, он — только инструмент, только язык. И, разумеется, язык не может существовать вне традиции — иначе он останется непонятным.
Весь вопрос заключается в том, какой традиции следует художник и почему он ей следует. Потому, что его заставили, или потому, что он её любит? Потому, что она ему технически доступна, пользуется спросом на рынке, автоматически считается православной, или потому, что она наилучшим образом передаёт то, что ему хочется высказать о своём опыте богопознания?
Само собой разумеется, новая икона, новая без кавычек, в самом что ни на есть положительном смысле слова, то есть прямое, честное, достоверное выражение современного церковного богопознания, может получиться только во втором случае. Иначе — получается или новая (ещё одна!) репродукция старой иконы, или некий новый (более или менее дерзкий) декоративный экзерсис по мотивам старых икон, но не новая икона.
«Прошло 7 лет с тех пор, как я впервые столкнулась с, казалось бы, непробиваемой стеной иконописной теории и практики парижской школы»
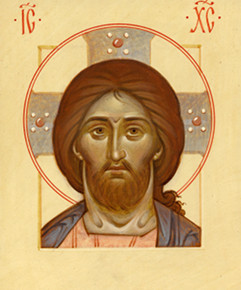 — Видите ли Вы результаты Ваших трудов?
— Видите ли Вы результаты Ваших трудов?
— Да, я вижу их ежедневно. Прошло всего семь лет с тех пор, как я впервые столкнулась вплотную с, казалось бы, непробиваемой стеной иконописной теории и практики, порожденной парижской школой в условиях Западной Европы. Всего семь лет с тех пор, как я в полуобмороке от гнева и отвращения уходила с выставок и докладов местных иконописных гуру, не имея никакой возможности вмешаться, что-то противопоставить, как-то возразить на поругание священного образа.
Теперь у меня есть школа, есть единомышленники, заказчики, постоянные посетители выставок, читатели, добровольные переводчики и распространители книг и статей. Кроме этих друзей, учеников и соработников в реальной моей жизни на Западе, у меня появилось много знакомых по переписке — из России, Украины и других православных стран.
Среди них есть иконописцы, преподаватели иконописи, духовенство, богословы, профессиональные искусствоведы. И просто люди, любящие искусство, неравнодушные к его судьбе, так или иначе уразумевшие, что будущее всей культуры христианского мира зависит от правильного понимания наиболее высокого и сложного феномена этой культуры — священного образа.
Я не знаю, насколько эта суть, собственно, результаты моих трудов и насколько — приметы времени, всеобщий поиск выхода из душного тупика. Во всяком случае, для меня очень важно участвовать в этом поиске — и как художнику, и как преподавателю, и как теоретику искусства.
— Бываете ли Вы на Родине и, в частности, в Украине?
— Будучи единственным и бессменным преподавателем в своем учебном заведении (которое, кстати, является частной антрепризой со всеми вытекающими последствиями, включая налоги), я располагаю не слишком широкими возможностями для поездок. Даже в Петербург, где живёт мой взрослый сын, я заглядываю не каждый год. На Украине, откуда я уехала почти тридцать лет назад, у меня, естественным образом, не сохранилось прежних связей. Зато, как я уже сказала, появилось немало новых — по линии теории и практики нашего священного ремесла.
Я с большим интересом слежу за новыми явлениями в украинской иконописи — тем более, что Украина всегда была открыта культурным влияниям Запада в большей степени, чем Россия, и в известном смысле более свободна в их рецепции. Соответственно, вопрос об оценке качества этих влияний и о границах свободы рецепции должен быть очень актуальным для украинского православия.
Мне бы очень хотелось, чтобы информация о работе украинских церковных художников, вкупе с доброжелательной и компетентной критикой, стала постоянно доступной широкому читателю.
— Это также и моё горячее желание.
Опубликовано: 09/06/2012