Ипостась и образ
Христологические основания догмата иконопочитания
Введение
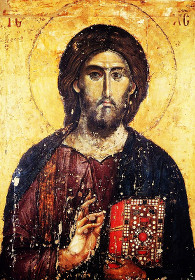 Полемика, развернутая иконоборцами против иконопочитания, вовлекла в свою сферу целый ряд проблем. Одна из них была поставлена как обвинение в том, что иконопочитатели считают возможным утверждать изобразимость Божества на иконе. Обвинение это было двоякого рода: с одной стороны, иконопочитатели якобы считали возможным изобразить обоживающую благодать; с другой — Божественный образ Христа-Логоса. Как известно, оба пункта обвинения были отвергнуты защитниками икон, твердо установившими верность свою святоотеческому учению о непостижимости, невидимости, невыразимости и неизобразимости Божества и отказавшимися признать себе принадлежащим приписываемое им мнение, будто целью иконописания является сделать видимым Божество Христово или обожение Его святой плоти (или — плоти святых Его). И, однако, иконопочитатели исповедовали, что на иконе изображается «всецелый Христос»: и Бог, и человек.
Полемика, развернутая иконоборцами против иконопочитания, вовлекла в свою сферу целый ряд проблем. Одна из них была поставлена как обвинение в том, что иконопочитатели считают возможным утверждать изобразимость Божества на иконе. Обвинение это было двоякого рода: с одной стороны, иконопочитатели якобы считали возможным изобразить обоживающую благодать; с другой — Божественный образ Христа-Логоса. Как известно, оба пункта обвинения были отвергнуты защитниками икон, твердо установившими верность свою святоотеческому учению о непостижимости, невидимости, невыразимости и неизобразимости Божества и отказавшимися признать себе принадлежащим приписываемое им мнение, будто целью иконописания является сделать видимым Божество Христово или обожение Его святой плоти (или — плоти святых Его). И, однако, иконопочитатели исповедовали, что на иконе изображается «всецелый Христос»: и Бог, и человек.
Казалось бы, здесь налицо антиномия. Попытки разрешения этой кажущейся антиномии были предприняты в начале ХХ века в России деятелями так называемого «религиозного возрождения», продолжены в трудах представителей направления в богословии, именуемого Парижской богословской школой (первое поколение их как раз и состоит из мыслителей означенного движения «религиозного возрождения»), и осуществляются сегодня их многочисленными последователями. В русле этих поисков было сформулировано (прежде всего — в творчестве крупнейшего теоретика «богословия иконы» Л. А. Успенского), при сохранении мнения о неизобразимости Божества, учение о «символическом реализме» — некой особенной иконописной манере изображения, коей подвластно все-таки быть способом и средством сделать Божество видимым для чувственного зрения.
Разбирая учение Л. А. Успенского и его последователей о символическом реализме как языке иконы[1], мы предпочли сосредоточиться на исследовании соответствия положения, что икона самой манерой написания делает Божество некоторым (символическим) образом видимым, — святоотеческому учению. Результатом проделанной работы стало заключение, что искомого соответствия обнаружить невозможно. Проблема же богословского разрешения «антиномии» изобразимости-неизобразимости Божества была затронута нами лишь вскользь. И этому есть объяснение. Не найдя в разбираемом учении о символической манере — соответствия святоотеческим текстам, мы, разумеется, были затруднены в отыскании связи между оным учением и взглядами свв. отцов на проблему изобразимости Божества. Обоснование наличия этой связи Л. А Успенским и другими было — в исследованных текстах — подменено декларированием ее и никак не могло быть выведено из тех произведений отцов Церкви, на которые делались ссылки. Исходя из этого, мы ограничились лишь кратким указанием на наиболее очевидные противоречия (как внутренние, так и в отношении к святоотеческому учению) в доказательствах как обоснованности способов решения «антиномии» изобразимости-неизобразимости Божества, так и вообще ее существования.
Теперь же мы намерены обратиться к проблеме изобразимости Божества прямо, не отвлекаясь на учение о манере изображения[2]. Кроме того, в данной работе мы постараемся не касаться того аспекта проблемы, где речь идет об изобразимости обоживающей благодати. Мы думаем, что этот аспект был рассмотрен уже прежде (в упомянутой работе об Успенском) вполне удовлетворительно, и выводы, нами сделанные (отсутствие в святоотеческом наследии учения о необходимости и возможности изображения на иконах обоживающей благодати средствами иными, кроме использования иконографических символов; сходство представлений иконоборцев и сторонников «символического реализма» в полагании смысла иконописания, при противоположной оценке возможности достижения результата, в изображении благодати) достаточно обоснованы.
В данной работе наше внимание будет сосредоточено на проблеме изобразимости Божества в аспекте необходимости и возможности изображения образа Божия.
Удобнее всего будет подойти к постановке проблемы тем путем, который изначально и привлек наше внимание, послужив толчком к последующим размышлениям, — путем, проложенным в книге Л. А. Успенского «Богословие иконы». Мысль Успенского о существе интересующего нас аспекта иконоборческих споров ясно сформулирована в нижеследующем отрывке:
«Что такое икона в представлении иконоборцев? Какова ее природа? Что имеет она общего с изображенным на ней лицом и чем от него отличается? Ибо именно в самом определении понятия «икона» и заключается основное различие между борющимися сторонами, так как в представлении иконоборцев оно преломлялось совершенно иначе, чем в представлении православных иконопочитателей.
Иконоборческое понятие иконы ясно и точно дано в трактате императора Константина, который в этом смысле выражает общую точку зрения вождей иконоборчества. В его понимании истинная икона должна быть единосущна (omoousion) изображенному на ней лицу, то есть быть тождественной с ним, иметь одну с ним природу. Исходя из положения, иконоборцы пришли к естественному и логически неизбежному выводу, что единственным образом Христа является Евхаристия, Святые дары. Христос, говорили они, нарочно избрал образом Своего воплощения хлеб потому, что он ни в к какой мере не похож на человека и поэтому не может возбудить идолопоклонства. Следовательно, «понятие «образ», «икона» в представлении иконоборцев означало нечто совсем иное, чем в представлении иконопочитателей, — говорит Г. Острогорский, — коль скоро для иконоборцев истинной иконой могло считаться лишь нечто такое, что было тождественно со своим «архетипом», то только причастие они и могли признать иконой Христа. Для православных же иконопочитателей именно потому Причастие уже не было «иконой» — образом, что оно тождественно со своим «архетипом». Действительно, преложение Святых Даров совершается не во образ, а в «самое пречистое Тело и самую честную Кровь» Христовы. Поэтому само наименование Святых даров образом было для православных чуждо и непонятно. «Ни господь, ни апостолы, ни отцы никогда не называли бескровной жертвы приносимой, иереем, образом, но называли ее самим Телом и самой Кровию», — возражают отцы Седьмого Вселенского Собора.
<...> Итак, иконоборческому мышлению представлялось, что иконой может быть только предмет, тождественный изобразуемому. Если же тождества нет, то и образа быть не может. Следовательно, изображение, сделанное художником, не может быть иконой Христовой. Вообще изобразительное искусство — богохульство в отношении догмата Боговоплощения. Что же делает невежественный художник, когда дает форму тому, во что можно только верить сердцем и исповедовать устами? — спрашивают иконоборцы. Ведь наименование Иисус Христос относится к Богочеловеку. Значит, изображая Его, вы богохульствуете вдвойне: во-первых, вы пытаетесь изобразить Божество, Которое неизобразимо; во-вторых, если вы пытаетесь изобразить на иконе и божественную, и человеческую природы Христа, то этим вы стремитесь к слиянию этих природ, а это есть монофизитство. Но вы отвечаете, что изображаете лишь плоть Христову, видимую и осязаемую. Но плоть эта — человеческая, и следовательно, вы изображаете только человечество Христово, одну Его человеческую природу. Но в таком случае вы отделяете ее от соединившегося с ней Божества, а это есть несторианство. Ведь плоть Иисуса Христа — это плоть Бога слова: она целиком Им воспринята и обожжена. Как же эти нечестивые осмеливаются, говориться в оросе иконоборческого Собора, отделять Божество от плоти Христовой и изображать только ее, так, как если бы они изображали обыкновенного человека? Ведь Церковь верует во Христа, в Котором Божество и человечество соединяются нераздельно и неслиянно. Изображая же только человечество Христа, Вы разделяете Его природы, отделяете Его Божество от Его человечества, приписывая этому человечеству самостоятельное независимое бытие или видя в нем отдельную личность и тем самым вводите четвертую ипостась в Троицу. Итак, в представлении иконоборцев икона не может передать истинного соотношения природ Христовых. Следовательно, сделать Его икону, то есть изобразить человеческими средствами Богочеловека — невозможно. Поэтому евхаристия и является единственным возможным образом Спасителя.
<...> Как мы видим, иконоборцы в своей аргументации пытаются исходить из Халкидонского догмата. Однако основной недостаток их аргументации, который был немедленно вскрыт православными, как раз и заключается в глубоком непонимании догмата о Бого-Человеке Иисусе Христе. Халкидонский догмат предполагает прежде всего ясное различие между природой, с одной стороны, и личностью, ипостасью — с другой. Как раз этой-то ясности и нет в иконоборческом мышлении. В изображении воплотившегося Бога Слова им представляется две возможности: или, изображая Христа, мы изображаем Его природу человеческую, отдельно от Его Божества. И то, и другое является ересью. Третьей возможности нет»[3].
В приведенном отрывке Леонид Александрович указывает два пункта расхождений между иконоборцами и иконопочитателями. Первый пункт — различное понимание значения слова «образ», «икона». Думается, что если бы расхождения исчерпывались этим пунктом, то они могли бы быть преодолены без труда путем согласования словоупотребления. Нельзя же всерьез предположить, что иконоборы не ведали, что в греческом языке слово εικων употребляется не только в значении «единосущный образ». С другой стороны, известно, что словосочетание «единосущный образ» не было чем-то необычным для отцов Церкви и активно использовалось, в том числе и защитниками икон (например, когда говорилось о Сыне как единосущном образе Божием). Следовательно, если бы речь шла только о словах, только о словоупотреблении, то возможность преодоления разногласий была бы весьма вероятной. Можно было бы, скажем, договориться применять к изображениям слово «образ» в значении образа не-единосущного, иноприродного; а в применении к Св. Дарам — в значении единосущного образа[4]. Однако согласия не возникло.
Л. Успенскому представляется, что главным пунктом расхождения было погрешение иконоборцев в области христологии, «непонимании догмата о Бого-Человеке Иисусе Христе». Правильное понимание Халкидонского догмата приводит к правильному же пониманию смысла и функции иконы. Успенский пишет:
<...>"православные, ясно осознавая различие между природой и лицом, именно и указывают на эту третью возможность, которая упраздняет всю иконоборческую дилемму. Икона изображает не природу, а личность, разъясняет преподобный Феодор Студит. Изображая Спасителя, мы не изображаем ни Его Божество, ни Его человечество, но Его Ипостась, непостижимо соединяющую в себе эти две природы «неслиянно и нераздельно», по выражению Халкидонского догмата.
В свое время монофелиты свойство природы переносили на личность: одно Лицо — следовательно, одна воля и одно действие. Иконоборцы же, наоборот, переносят то, что свойственно личности, на природу. Отсюда и происходит путаница в иконоборческом мышлении. Если воля и действие свойственны каждой природе Иисуса Христа, так что в нем две воли и два действия соответствуют двум Его природам, то Его образ свойственен не той или иной Его природе, а Его личности, Ипостаси. Икона является не образом божественной природы, а образом воплотившегося второго Лица Святой Троицы, передает черты Сына Божия, явившегося во плоти, ставшего видимым, следовательно изобразимым человеческими средствами. Со стороны православных вопрос о природе даже не вставал. При ясном различении между природой и личностью для них было совершенно очевидно, что икона, так же как и обычный портрет, может быть только образом личным, так как «сущность (то есть природа) не имеет самостоятельного бытия, но усматривается в личностях», — говорит преподобный Иоанн Дамаскин. Природа существует только в личностях, и каждая личность обладает полнотой своей природы; каждое Лицо Святой Троицы обладает всей полнотой божественной природы; каждое человеческое лицо обладает всей полнотой природы человеческой. Природа у всех людей одна, личностей же множество, и каждая из них единственна и неповторима. Изображая людей, мы изображаем не множество вариантов одной природы и не отдельные ее частицы, а конкретные личности: Петра, Иоанна, Павла и т.д., каждая из которых обладает своей природой по-своему, что и придает каждому лицу свойственные ему черты». Икона связана со своим прототипом не в силу тождества с ним, что было бы абсурдным; икона связана со своим первообразом тем, что она изображает его личность и носит его имя. Именно это и делает возможным общение с изображенным на ней лицом, познание его»[5].
Мы не станем сейчас обсуждать, насколько убедительны были бы эти рассуждения для иконоборцев. Но из уст православных защитников икон они быть услышаны не могли. Леонид Александрович заблуждался, приписывая иконопочитателям учение, что «Его образ свойственен не той или иной его природе, а Его Личности, Ипостаси», и, поэтому, в отличие от двух воль и двух действий, мы должны исповедовать один образ во Христе. Святые отцы совершенно ясно учат о двух образах во Христе. При этом не только нельзя сказать, что «со стороны православных вопрос о природе даже не вставал», нет, он был поставлен и разрешен именно в святоотеческом учении о двух образах.
Если это так, то выход, указываемый Успенским из «всей иконоборческой дилеммы» (независимо от того, насколько он удачен сам по себе) отличается от святоотеческого. Игнорируя вопрос о природе и приходя к своеобразному «моноэйконизму», Успенский делает понятие об ипостаси слишком отвлеченным. То правда, что «природа существует только в личностях», однако Успенский не придает значения собственным словам, что «и каждая личность обладает полнотой своей природы». Как природа не может иметь внеипостасного существования, так и ипостась не существует вне природы. Утверждая связь «образ-ипостась» и полагая, что «вопрос о природе даже не вставал», Леонид Александрович только внешне разрешает дилемму иконоборцев, не допуская в свое рассуждение очевидно неизбежного вопроса о природе образа и природе ипостаси. Если этот вопрос не принимать во внимание, то утверждение, что «изображая людей, мы изображаем не множество вариантов одной природы и не отдельные частицы, а конкретные личности», не вызывает возражений. Однако достаточно уточнить, принадлежит ли свойство изобразимости природе или ипостаси, как становится явной недостаточность и поспешность такого разрешения проблемы связи изображения с ипостасью и природой. Можно ли сказать, будто изображается некая вообще ипостась, вне соотнесенности ее с природой, ипостасью которой она и является? Как может быть изобразима эта ипостась как таковая?
Проблема еще усложняется, если мы попытаемся, исходя из мысли об одном образе во Христе, свойственном не природе, но ипостаси, дать ответ на дилемму иконоборцев. Против этой мысли они могли бы возразить, воспроизводя святоотеческую аргументацию, использованную в монофелитском споре. Иконоборцы могли бы спросить, человеческой или божественной природы образ Христа. Достаточен ли будет ответ, что это не имеет значения, так как изображается образ не природы, а — ипостаси? Если вопрос о природе образа, свойственного человеческой ипостаси, не стоит столь остро в отношении к его, образа, изображению на иконе (хотя, как мы увидим, он тоже был поставлен и разрешен защитниками икон), то в случае иконы Христа обойти его молчанием значит не ответить, а просто отказаться от полемики. Но каков мог бы быть ответ? Если помнить, что спрашивается о богочеловеческой ипостаси Христа, то получается, что природа образа, изображаемого на иконе, — богочеловеческая (а это значит, что и божественной приписывается свойство описуемости); если же «забыть» о двух природах, в которых существует ипостась Бога Слова по воплощении, то ответ будет еще более шокирующим: образ Христов не имеет никакой природы!
Мы не станем здесь углубляться в детали обсуждаемой проблемы. Прежде всего потому, что и сам Леонид Александрович не останавливается на них, снимая саму проблему и отсылая нас за подробностями того, что он называет «полным представлением о православном учении о природе, личности и благодати»[6], к произведениям Вл. Н. Лосского. К ним нам и следует обратиться, чтобы прояснить то, что оказывается неясным в выходе из иконоборческой дилеммы, предлагаемом Успенским, и в основоположениях, обусловливающих избрание именно такого выхода.
1. Учение Вл. Н. Лосского об ипостаси
Творчество одного из крупнейших православных богословов ХХ века Вл. Н. Лосского занимает важное место в движении богословской мысли, направленной на возрождение интереса к патристическому наследию. Огромной заслугой Владимира Николаевича является убедительное обоснование того взгляда на наследие отцов Церкви, что оно сохраняет актуальность во все исторические эпохи и продолжает оставаться необходимым руководством и критерием истинности и глубины при рассмотрении любых самых острых проблем современности. Вместе с тем Вл. Н. Лосскому удалось дать впечатляющие примеры успешности практического применения этого взгляда при постановке и разрешении большого круга вопросов. Значение и роль Вл. Н. Лосского не могут быть подвергнуты сомнению, и убеждение в высокой ценности его творчества для нас не может быть поколеблено. Поэтому, подвергая критике некоторые высказывания Владимира Николаевича, мы не хотели бы, чтобы сказанное нами расценивалось как попытка принизить заслуги действительно уважаемого нами крупного мыслителя. Однако нам представляется обязательным указать на те места в сочинениях Вл. Н. Лосского, где ему случалось отступать от верного следования святоотеческому учению. Обязательность такой критики обусловлена как тем, что, даже ошибаясь, Лосский остается на острие актуальности; и тем, что многие сегодня, подчиняясь высокому (заслуженно) авторитету его, склонны принимать все высказанное Лосским без подобающего рассуждения, не следуя тем самым критерию, установленному самим Владимиром Николаевичем, — соотнесения с учением святых отцов Церкви.
Сделав это замечание, обратимся к интересующей нас проблеме. Прежде всего нам следует попытаться рассмотреть некоторые мысли, высказанные Лосским в сочинении «Богословское понятие человеческой личности». Это сочинение представляется нам наиболее значимым в смысле понимания данного Лосским богословского обоснования постановки и разрешения вопроса о соотнесении понятий «ипостась, «личность», «природа», «сущность», «образ», «индивидуум», — что (несмотря на то, что речь как будто идет о человеческой личности) имеет непосредственное отношение к обсуждаемой проблеме изобразимости образа Божия.
Рассуждение Лосского опирается на методологический принцип, заявленный в самом начале статьи.
«Я не берусь излагать то, как понимали человеческую личность отцы Церкви или же какие-либо иные христианские богословы. Даже если бы мы и хотели за это взяться, следовало бы предварительно спросить себя, в какой мере оправдано само наше желание найти у отцов первых веков учение о человеческой личности. Не было бы это желанием приписывать им мысли, вероятно, им чуждые, но которыми мы, тем не менее, их наделили бы, не отдавая себе ясного отчета в том, как зависимы мы в самом методе нашего суждения о человеческой личности от сложной философской традиции — от образа мысли, следовавшей путем весьма отличным от того, который можно было бы считать путем собственно богословского предания? Во избежание подобной бессознательной сбивчивости, а также злоупотребления сознательными анахронизмами, когда вкладываешь что-то от Бергсона в свт. Григория Нисского или что-то от Гегеля в прп. Максима Исповедника, мы пока что воздержимся от всякой попытки найти в святоотеческих текстах развернутое учение (или учения) о личности человека. Я же лично должен признаться в том, что до сих пор не встречал в святоотеческом богословии того, что можно было бы назвать разработанным учением о личности человеческой, тогда как учение о Лицах, или Ипостасях, Божественных изложено чрезвычайно четко. Тем не менее христианская антропология существует как у отцов первых восьми веков, так и позднее, как в Византии, так и на Западе, и нет сомнений в том, что то учение о человеке личностно, персоналистично. Разве могло бы оно быть иным в богословской мысли, основанной на Откровении Бога живого и личного, создавшего человека «по Своему образу и подобию»?
Итак, я не буду проводить исторического исследования христианского вероучения, а ограничусь только изложением некоторых богословских мыслей о том, каким же требованиям должно отвечать понятие человеческой личности в контексте христианской догматики»[7].
Здесь Владимир Николаевич проявляет одновременно и чрезмерную осторожность, и чрезмерную смелость. Разумеется, исследователь никогда не должен забывать об опасности искажающего прочтения того или иного текста, обусловленного вековыми «наслоениями» различных философских и богословских традиций, которые могут изменить само понятие о предмете исследования до неузнаваемости. Впрочем, возможность взаимного непонимания нередко подстерегает и современников, и даже тех, кто принадлежит к одному кругу, объединенный с другими общим культурным горизонтом и языком. Можно сказать, что люди находятся в таком бедственном положении издавна (по крайней мере — со времен строительства Вавилонской башни) и испытывают сомнения относительно возможности правильного согласования индивидуальных «диалектов» представителей единой, как чается, культуры и того же, как кажется, языка. Вместе с тем, не имея средств к достижению абсолютно достоверно знаемого соответствия интерпретации — высказыванию, человечество владеет достаточно широким спектром методов, позволяющих надеяться на достижение искомого соответствия с большой вероятностью, а подчас и быть уверенным в нем.
Однако почва для надежды становится зыбкой, а основания уверенности серьезно колеблются, если мы, отказываясь от поисков «того, что можно было бы назвать разработанным учением», пытаемся артикулировать невысказанное. Опасность искажающей интерпретации в этом случае существенно возрастает. Поэтому нам кажется странным, что Владимир Николаевич, прекрасно сознавая трудности понимания, которыми чревато исследование даже при наличии текстов, решается «излагать» то, «каким требованиям должно отвечать понятие человеческой личности в контексте христианской догматики», хотя и признается, что «до сих пор не встречал в святоотеческом богословии того, что можно было бы назвать разработанным учением о личности человеческой». Отказываясь заранее от надежды на успех при уразумении (конечно, «в контексте христианской догматики»!) высказанного учения, не следует ли тем более остерегаться, обращаясь к учению невысказанному?
Мы постараемся проследить, насколько удалось Владимиру Николаевичу справиться с поставленной им задачей, а также зададимся вопросом о невысказанных основаниях, не позволивших богослову и философу, чья эрудиция несравнимо превосходит нашу, пройти мимо впечатляющего количества текстов, вполне ясно излагающих святоотеческое учение о личности. Сделать это мы считаем необходимым так, чтобы не избегать предложенного Вл. Н. Лосским контекста.
Правильным подходом к проблеме Лосский полагает обращение к святоотеческому учению о Троице: «Прежде чем спрашивать, что в богословском контексте есть человеческая личность, мы должны сказать несколько слов о Лицах божественных»[8]. Позволим себе процитировать большой фрагмент статьи Лосского, где он излагает интересующие его аспекты святоотеческой триадологии:
«Чтобы наилучшим образом выразить присущую Богу реальность личностного или, вернее, выразить реальность личного Бога, — а реальность эта есть не только домостроительный модус проявления безличностной в Самой Себе Монады, но первичное и абсолютное пребывание Бога-Троицы в Своей трансцендентности, — греческие отцы для обозначения Божественных Лиц предпочли термину προσωπον термин υποστασις. Мысль, различающая в Боге «усию» и «ипостась», пользуется словарем метафизическим и выражает себя в терминах онтологических, которые в данном случае являются не столько понятиями, сколько условными знаками, отмечающими абсолютную тождественность и абсолютную различимость. В своем желании выразить «несводимость» ипостаси к усии, несводимость личности к сущности, не противопоставив их при этом как две реальности, святые отцы провели различие между двумя данными синонимами, что действительно было терминологической находкой, позволившей сказать свт. Григорию Богослову: «Сын не Отец (потому что есть только один Отец), но Он то же, что Отец. Дух Святой, хотя Он исходит от Бога, не Сын (потому что есть только один Единородный Сын), но Он то же, что Сын». Ипостась есть то, что есть усия, к ней приложимы все свойства — или же все отрицания, — какие только могут быть сформулированы по отношению к «сверхсущности», и, однако, она остается к усии несводимой. Эту несводимость нельзя ни уловить, ни выразить вне отношения трех Ипостасей, которые, собственно говоря, не три, но «триединство». Когда мы говорим «три Ипостаси», то уже впадаем в недопустимую абстракцию: если бы мы и захотели обобщать и найти определение «Божественной Ипостаси», надо было бы сказать, что единственное обобщающее определение трех Ипостасей — это невозможность какого бы то ни было общего их определения. Они сходны в том, что несходны, или же, превосходя относительную и неуместную здесь идею сходства, мы должны были бы сказать, что абсолютная их различимость предполагает и абсолютное их тождество, вне которого немыслимо говорить об ипостасном триединстве. Как «три» здесь не количественное число, а знак бесконечного превосхождения диады противопоставлений триадой чистых различений (триадой, равнозначной монаде), так ипостась как таковая и к усии несводимая — это не сформулированное понятие, а знак, вводящий нас в сферу необобщимого и отмечающий существенно личностный характер Бога христианского Откровения.
Однако усия и ипостась — всё же синонимы, и каждый раз, когда мы хотим установить четкое разграничение между этими двумя терминами, придавая им тем самым различное содержание, мы вновь неизбежно впадаем в область концептуального познания: общее — противопоставляем частному, «вторую усию» — индивидуальной субстанции, род или вид — индивидууму. Это мы и находим, например, в следующем тексте блж. Феодорита Киррского: «Согласно языческой философии, между усией и ипостасью нет никакой разницы: усия обозначает то, что есть (το ον), а ипостась — то, что существует (το υφεστος). По учению же отцов, между усией и ипостасью та же разница, что между общим и частным, то есть между родом или видом и индивидуумом». Такая же неожиданность подстерегает нас и в «Диалектике» прп. Иоанна Дамаскина, в этом своеобразном философском зачине к его изложению христианского вероучения. Дамаскин пишет: «У слова «ипостась» два значения. Иногда оно просто обозначает существование (υπαρξις), и в этом случае усия и ипостась суть понятия равнозначные. Поэтому некоторые отцы и говорили: «природы (φυσεις) или ипостаси». Иногда же слово это указывает на то, что существует само по себе, по собственной своей субстанции (την κατ αυτο και ιδιοσυστατον υπαρξιν). В этом смысле это слово обозначает индивидуума (το ατομον), который нумерически отличен от всякого иного, например, Петр, Павел, некоторая лошадь»[9].
Из сказанного автор делает вывод:
«Ясно, что подобное определение ипостаси могло быть лишь подходом к троическому богословию, как бы отправной точкой на пути от концептов к понятию «деконцептуализированному», которое уже больше не есть понятие индивидуума, принадлежащего к некоторому роду. Если отдельные критики и видели в учении святителя Василия Великого о Троице различение υποστασις и ουσια, соответствующее аристотелевскому различению πρωτη и υτερδεα ουσια (первой и второй природы), то это говорит лишь о том, что они не сумели отличить точки прибытия от точки отправления, богословского здания, воздвигнутого за пределами концептов, от его концептуальных лесов и подмостков.
В троическом богословии (которое для отцов первых веков было «богословием» по преимуществу, «теологией» — в прямом смысле слова) понятие «ипостась» неравно понятию «индивидуум» и «Божество» не есть некая «индивидуальная субстанция» Божественной природы. То различение понятий, выраженных синонимами, которое Феодорит приписывает отцам, есть не что иное, как подход через определения к неопределимому. Феодорит, по существу был неправ, когда введенное отцами различение противопоставлял тождеству этих двух терминов в «философии мира». Он действительно был больше историком, нежели богословом, и увидел в оригинальной синонимике двух выбранных отцами терминов для обозначения в Боге «общего» и «частного» лишь исторический курьез. Но для чего же было выбирать эту синонимику, как не для сохранения за «общим» значения конкретной усии и исключения из «частного» всякой ограниченности, свойственной индивидууму? Не для того ли был сделан этот выбор, чтобы понятие «ипостась» распространилось на всю общую природу, а не дробило бы ее? Если это так, то установленную отцами богословскую истину различения усии и ипостаси следует искать не в буквальности понятийного, концептуального выражения, а между ним и тождеством этих двух понятий, свойственном «философии мира». Иными словами, истину нам надо искать за пределами понятий: они очищаются и становятся знаками личностной реальности Того Бога, Который не есть ни Бог философов, ни (увы, слишком часто) Бог богословов»[10].
Итак, приступая к тому, чтобы «попытаться теперь найти тот же внеконцептуальный смысл различения ипостаси и усии, или природы, в христианской антропологии»[11], Лосский исходит из «смысла различения» этих понятий в троическом богословии отцов Церкви. Что, собственно, и должно, по Лосскому, послужить «контекстом христианской догматики» для целей построения «разработанного учения о человеческой личности», коего, как мы помним, автор «до сих пор не встречал в святоотеческом богословии». Соглашаясь с Лосским, что у свв. отцов «учение о Лицах, или Ипостасях, Божественных изложено чрезвычайно четко», спросим, насколько ясно и четко оно воспроизведено. Что нам удается узнать из цитированных фрагментов? Прежде всего, то, что понятия ипостаси и личности тождественны. Это позволяет нам утверждать, что в поисках определения человеческой личности мы смело можем опираться на те места из творений свв. отцов, где говорится об ипостаси.
Но далее рассуждения автора теряют ясность и четкость. Воспроизведя святоотеческое учение об ипостаси в связи с установлением различия между ипостасью и усией, Владимир Николаевич цитирует два святоотеческих текста. Но делает он это только для того, чтобы тут же признать их неудовлетворительными, явно не могущими преодолеть «области концептуального знания». С чем же мы остаемся? Изложенное, как предполагалось, святыми отцами «чрезвычайно четко» учение не сообщается читателю простым, ясным и четким способом — цитированием, но преподносится путем, хотя и весьма тонких и остроумных, но собственных филологических розысканий автора. Можно, конечно, ставить под сомнение богословскую компетентность блж. Феодорита (хотя делать это следует осторожно, опираясь на святоотеческое учение, данное в чрезвычайно четком изложении, а не соотнося текст, который нам не по нраву, со своими размышлениями) и сказать, что как богослов он не столь хорош, каков как историк. Но кто же, однако, хорош? Преподобный Иоанн Дамаскин? По-видимому, нет. Но ничьих текстов больше не приводится! Лосский не помогает нам узнать, насколько четко учение свв. отцов «из уст», так сказать, самих свв. отцов.
Оставляя пока в стороне то, что мы назвали собственными филологическими розысканиями Владимира Николаевича, заметим, что он ставит читателя в трудное положение. В самом деле, заявив о неразработанности в святоотеческом богословии понятия человеческой личности, Лосский обещает дать разрешение заявленного в заглавии статьи вопроса помещением его в контекст христианской догматики, а именно — «чрезвычайно четко изложенное» учение о Божественных лицах, Ипостасях. Однако оказывается, что в двух приведенных примерах изложение неудовлетворительно, а другие — отсутствуют, замещенные диалектикой автора. Как бы успешно она ни была осуществлена (мы, кстати говоря, думаем, что не слишком успешно), она в данной ситуации не может нам заменить обещанного — учения самих свв. отцов. Очевидно, что не одно и то же — изложение учения свв. отцов и учение, изложенное свв. отцами. Первое желательно сообразовывать со вторым, во избежание недоразумений, на опасность которых мы указывали, говоря о том, что ошибки понимания тем более возможны, если мы стремимся постичь мысль, минуя слово. В данном случае нам приходится иметь дело с попыткой определения неизвестного при помощи другого неизвестного, основываясь лишь на размышлениях Лосского относительно второго, «неопределимого», чью «истину нам надо искать за пределами понятий».
Эта-то «неопределимость», заключающаяся в «несводимости» деконцептуализированного понятия ипостаси (тождественного понятию личности) к понятию усии при сохранении их «синонимичности» и отрицание возможности различия их тем способом, который признают общепринятым «по учению отцов» блж. Феодорит и прп. Иоанн, и оказывается тем, что мы должны принять в качестве обещанного чрезвычайно четкого учения.
Вполне удовлетворенный достигнутым результатом, Лосский продолжает:
«Попытаемся теперь найти тот же внеконцептуальный смысл различения ипостаси и усии, или природы, в христианской антропологии. Несводимость ипостаси к сущности или природе, та несводимость, которая, раскрывая характерную ипостасную неопределимость, заставила нас отказаться от тождественности между ипостасью и индивидуумом в Троице, присуща ли она также сфере тварного, в частности, когда речь идет об ипостасях, или личностях, человеческих? Ставя это вопрос, мы тем самым ставим и другой: отразилось ли троическое богословие в христианской антропологии; раскрыло ли оно новое измерение «личностного», обнаружив понятие ипостаси человеческой, также несводимой к уровню индивидуальных природ, или субстанций, столь удобно вписывающихся в концепты <...>»[12]
Для ответа на эти вопросы Лосский, как кажется, отказывается от методологического принципа, заявленного в начале статьи, и прибегает к методу рассуждения, принятому в схоластике:
«На этот вопрос мы ответим more scholastico [по обыкновению схоластов]. Сначала осторожно дадим отрицательный ответ: «videtur quod non» [представляется, что нет]. По-видимому, человеческая личность только индивидуум, нумерически отличный от всякого другого человека. <...> на языке богословов — и восточных и западных термин «человеческая личность» совпадает с термином «человеческий индивидуум»[13].
Последнее предложение заставляет усомниться, что метод схоластов может быть корректно проведен здесь Владимиром Николаевичем. Ибо, коль скоро «videtur quod non» устанавливается не путем самостоятельного рассуждения, а ссылкою на авторитет отцов, то и возражение «ad oppositum» (против этого) должно апеллировать, по принятому в схоластике методу рассуждения, к отцам же, и задачей богослова становится согласование противоречащих, по-видимому, друг другу текстов. Однако Лосский отказывается от следования избранному им схоластическому методу (да это и невозможно было бы сделать: если мы видим согласное понимание термина и у восточных, и у западных богословов, то найти возражения, пользуясь методом схоластов, более чем затруднительно) и возвращается к заявленному в начале статьи методологическому принципу, излишне смиренно отвергающему прямое цитирование:
«Если, как мы видели, христианская антропология не придала нового смысла термину «человеческая ипостась», попытаемся обнаружить другое такое понимание личности, которое уже не может быть тождественным понятию «индивидуум» и которое, хотя не зафиксировано само по себе каким-либо строгим термином, тем не менее в большинстве случаев служит невыраженным обоснованием, сокрытым во всех богословских или аскетических вероучениях, относящихся к человеку»[14].
На наш взгляд, мысль Лосского здесь делает недопустимый скачок, уже совершенно безоглядно вступая на путь предположений и догадок, путь напряженного всматривания в невыраженное и сокрытое. Владимир Николаевич не пытается дать объяснение этому «факту», что столь немаловажный вопрос был оставлен свв. отцами без выражения и раскрытия. А ведь это было бы тем более важно, так как выраженное учение должно быть, согласно автору, преодолено.
Но обратимся теперь к непосредственному рассмотрению того способа, которым Лосский приходит к «раскрытию сокрытого» понимания термина «ипостась» в контексте христианской догматики. В поисках «нового смысла» автор сосредоточивается на Халкидонском догмате, предпринимая чрезвычайно интересную и оригинальную его интерпретацию:
«<...>человечество Христа, по которому Он стал «единосущным нам», никогда не имело никакой другой ипостаси, кроме Ипостаси Сына Божия; однако никто не станет отрицать, что Его человеческая природа была «индивидуальной субстанцией», и Халкидонский догмат настаивает на том, что Христос «совершенен в Своем человечестве», «истинный человек» — из разумной души и тела (εκ ψυχης λογικης και σωματος). Потому человек Христос таков же, что и другие частные человеческие субстанции, или природы, которые именуются «ипостасями», или «личностями». Однако если бы мы применили это понимание ипостаси ко Христу, то впали бы в заблуждение Нестория и разделили ипостасное единство Христа на два друг от друга отличных «личностных» существа. Ведь, по Халкидонскому догмату, Божественное Лицо соделалось единосущным тварным лицам, то есть Оно стало Ипостасью человеческой природы, не превратившись в ипостась, или личность, человеческую. Следовательно, если Христос — Лицо Божественное, будучи одновременно совершенным человеком по своей «воипостазированной» природе, то надо признать (по крайней мере, за Христом), что здесь ипостась воспринятой человеческой природы нельзя свести к человеческой субстанции, к тому индивидууму, который был переписан при Августе наряду с другими подданными Римской империи. И в то же время мы можем сказать, что переписан по Своему человечеству был именно Бог, и потому именно можем мы это сказать, что этот человеческий индивидуум, этот «атом» человеческой природы, перечисляемый наряду с другими атомами, не был «человеческой личностью».
По всей видимости, ради того, чтобы быть последовательными, нам необходимо отказаться от обозначения индивидуальной субстанции разумной природы термином «личность» или «ипостась»[15].
Дав свое решение предложенного примера, Лосский утверждает, что «в человеческих существах мы также должны различать личность, или ипостась, и природу, или индивидуальную субстанцию»[16].
После этого автору важно задаться вопросом о том, «в каком же смысле должны мы проводить различие между личностью, или ипостасью, человеческой и человеком как индивидуумом, или отдельной природой»[17]. Рассмотрев попытку интерпретировать ипостась как некую часть, некое «высшее качество индивидуума», Лосский заключает:
«<...> понимание ипостаси, личности, человека как части его сложной индивидуальной природы оказывается несостоятельным. И это в точности соответствует несводимости ипостаси к человеческому индивидууму, в чем мы убедились, когда говорили о Халкидонском догмате. С другой же стороны, пытаясь отличить ипостась человека от состава его сложной природы — тела, души, духа (если принимать эту трехчастность), — мы не найдем ни одного определяющего свойства, ничего ей присущего, что было бы чуждо природе (φυσις) и принадлежало бы исключительно личности как таковой. Из чего следует, что сформулировать понятие личности человека мы не можем и должны удовлетвориться следующим: личность есть несводимость человека к природе. Именно несводимость, а не «нечто несводимое» или «нечто такое, что заставляет человека быть к своей природе несводимым», потому что не может быть здесь речи о чем-то отличном, об «иной природе», но только о ком-то, кто отличен от собственной своей природы, о ком-то, кто, содержа в себе свою природу, природу превосходит, кто этим превосходством дает существование ей как природе человеческой и тем не менее не существует сам по себе, вне своей природы, которую он «воипостазирует» и над которой непрестанно восходит, ее «восхищает»...»[18]
Итак, мы можем сказать, что не случайно и не по невнимательности автор «не встречал в святоотеческом богословии того, что можно было бы назвать разработанным учением о личности человеческой». Дело, оказывается, в том, что и вообще сформулировать понятие личности человека «мы не можем».
Но так ли это? И, если не так, то — почему Лосский отказывается и увидеть ясность и определенность в святоотеческом учении об ипостаси, и дать свое определение? Мы считаем, что — не так. Но сначала, прежде чем приступить к доказательствам своего мнения, попытаемся ответить на второй вопрос. На наш взгляд, основной причиной, приведшей Лосского к ошибочному решению поставленной им проблемы, является избрание им неверных методологических принципов. Несостоятельность одного из них и несоблюдение автором другого мы уже показали.
Теперь скажем о главном. Утверждение Лосского, что «уровень, на котором ставится проблема человеческой личности, превосходит уровень онтологии»[19], есть неизбежное следствие приема, когда термины, взятые из словаря, относящегося к сверхбытийной сфере, применяются на уровне онтологии. Таковы, по сути, все термины христианской теологии (в собственном смысле этого слова). Лосский счел возможным и методологически корректным термин богословского словаря «ипостась» поставить в контекст философский. Разумеется, оказалось, что на языке философии термин «неопределим» и понятие, им выражаемое, «мы сформулировать не можем». Но, однако, хотя термин «ипостась» употреблен свв. отцами (в контексте догматического учения о Троице) как термин богословского словаря, он имеет человеческое, а не божественное происхождение. Слово «ипостась» не с неба спустилось на землю и явилось в богословии, оставаясь (по причине своего «небесного» происхождения) недоступным для определения на онтологическом уровне. Во всяком случае, так нельзя думать, если мы хотим оставаться в русле святоотеческого учения о языке, предполагающего иной (можно сказать, диаметрально противоположный), нежели у Лосского, метод определения смысла понятий. По слову свт. Григория Богослова, «соразмеряясь со своим понятием, и Божие назвали мы именами, взятыми из самих себя»[20].
В одном из процитированных нами фрагментов статьи Лосский говорит как будто то же самое. Но это так только на первый взгляд. Утверждая, что мысль, различающая в Боге «усию» и «ипостась», пользуется словарем метафизическим и выражает себя в терминах онтологических», Лосский мыслит и учит в согласии с отцами. Однако, по Лосскому, философские термины при этом утрачивают свое значение, перестают быть понятиями, «в данном случае являются не столько понятиями, сколько условными знаками, отмечающими абсолютную тождественность и абсолютную различимость». То есть, «в данном случае», мы имеем дело с «терминологической находкой», которую удачно совершили свв. отцы «в своем желании выразить «несводимость» ипостаси к усии, несводимость личности к сущности». Дальнейшие рассуждения Лосского (в данном отрывке) направлены к тому, чтобы показать, что найденные «условные знаки» уже не имеют прежнего значения, каково оно было, когда они выражали понятия онтологические. Объяснение «несводимости», данное блж. Феодоритом и прп. Иоанном Дамаскиным, исходящее из стремления «установить четкое разграничение между двумя этими терминами», представляется Владимиру Николаевичу чем-то в роде простого недосмотра, совершенной «неожиданностью», подстерегающей тех, кто не может отрешиться от «преодоленного» словоупотребления. Так и должно быть, если намерением автора является понять значение термина не «соразмеряясь со своим понятием» (как думает свт. Григорий), а — пытаясь выразить «новый смысл» при помощи условного знака, уже не имеющего связи с выражавшимся им значением. В первом случае термин употребляется в своем собственном значении, но при этом должно, конечно, присутствовать ясное сознание недостаточности «имен, взятых из самих себя» для выражения и определения понятий, бесконечно превосходящих все человеческие понятия. Во втором случае — чем иным оказывается термин, как не попыткой стать условным знаком, словом божественного языка?
Не знаем, какого мнения был Лосский об отцах-каппадокийцах как об историках, но что богословски они были вполне компетентны, считал несомненно. Также не вызывает сомнения и то, что роль каппадокийцев в формировании троической терминологии была Лосскому известна. Поэтому странно, что автор, в других случаях являющийся образцом внимательного чтения свв. отцов, здесь, в статье, посвященной рассмотрению богословского понимания терминов «ипостась» и «усия», ограничивается цитатами из «больше историка, нежели богослова» блж. Феодорита Киррского и из произведения прп. Иоанна Дамаскина, отмеченного явным влиянием Аристотеля и потому могущего быть признанным излагающим учение, хотя бы отчасти, не святоотеческое, но — греческого философа (хотя нам кажется, что речь в любом случае должна идти не о влиянии, но об использовании). Но Лосский вовсе не рассматривает ни учения каппадокийских отцов об употреблении терминов «ипостась» и «усия» в троическом богословии, ни их изложения методологических оснований применения названных терминов в теологическом контексте.
А ведь отнесись Владимир Николаевич к текстам создателей троической терминологии с должным вниманием, он, возможно, отказался бы от избранной им методологии. Кроме приведенных выше слов свт. Григория Богослова, процитируем совет свт. Василия Великого из письма к свт. Григорию Нисскому:
«<...> какое понятие приобрел ты о различии сущности и ипостаси в нас, перенеси оное на божественные догматы; и не погрешишь»[21].
Очевидно, что методология, рекомендуемая свт. Василием, полагает иной, нежели у Лосского, метод применения метафизических терминов при «перенесении их на божественные догматы»; и высказанному свт. Василием (как выше — свт. Григорием) метод Лосского прямо противоречит.
В случае же изменения методологической установки ни мнение блж. Феодорита и прп. Иоанна не показалось бы Лосскому «неожиданностью», ни святоотеческое учение о личности человеческой — «неразработанным». Цитированное письмо свт. Василия, к слову сказать, является показательным примером и разработки понятия ипостаси человеческой, и понятий Ипостаси и Сущности Божественных, и метода, по которому слово, выражающее понятие одной области, может быть употреблено в другой. Каков этот метод, мы уже представляем. Ему предшествует изложение учения о значении терминов «ипостась» и «усия» в онтологии и антропологии:
«Поелику многие в таинственных догматах, не делая различия между сущностью вообще и понятием ипостасей, сбиваются на то же значение, и думают, что нет различия сказать: «сущность», или «ипостась» (почему некоторым из употребляющих слова сии без разбора вздумалось утверждать, что как сущность одна, так и ипостась одна, и наоборот, признающие три ипостаси думают, что по сему исповеданию должно допустить и разделение сущностей на равное сему число): то по сей причине, чтобы и тебе не впасть во что-либо подобное, на память тебе вкратце составил я о сем слово. Итак, чтобы выразить в немногих словах, понятие упомянутых речений есть следующее.
Одни именования, употребляемые о предметах многих и численно различных, имеют некое общее значение; таково, например, имя «человек». Ибо произнесший слово сие, означив этим именованием общую природу, не определил сим речением одного какого-нибудь человека, собственно означаемого сим именованием; потому что Петр не больше есть человек, как и Андрей, и Иоанн, и Иаков. Поэтому общность означаемого, подобно простирающаяся на всех подводимых под то же именование, имеет нужду в подразделении, чрез которое познаем не человека вообще, но Петра или Иоанна.
Другие же именования имеют значение частное, под которым разумеется не общность природы в означаемом, но очертание какого-либо предмета по отличительному его свойству, не имеющее ни малой общности с однородным ему предметом; таково, например, имя Павел или Тимофей. Ибо таковое речение ни мало не относится к общему естеству, но изображает именами понятие о некоторых определенных предметах, отделив их от собирательного значения.
Посему когда вдруг взяты двое или более, — например, Павел, Силуан, Тимофей, — тогда требуется составить понятие о сущности человеков; потому что никто не даст иного понятия о сущности в Павле, иного — в Силуане, а иного — в Тимофее, но какими словами обозначена сущность Павла, те же слова буду приличествовать и другим; ибо подведенные под одно понятие сущности между собою единосущны. Когда же, изучив общее, обратится кто к рассмотрению отличительного, чем одно отделяется от другого, тогда уже понятие, ведущее к познанию одного предмета, не будет во всем сходствовать с понятием другого предмета, хотя в некоторых чертах и найдется между ними нечто общее.
Посему утверждаем так: именуемое собственно выражается речением «ипостась». Ибо выговоривший слово «человек» неопределенностью значения передал слуху какую-то обширную мысль, так что хотя из сего наименования видно естество, но не означается им подлежащий и собственно именуемый предмет. А выговоривший слово «Павел» в означенном этим именованием предмете указал надлежащее естество. Итак, «ипостась» есть не понятие сущности неопределенное, по общности означаемого ни на чем не останавливающееся, но такое понятие, которое видимыми отличительными свойствами изображает и очертывает в каком-нибудь предмете общее и неопределенное»[22].
В отношении понимания терминов «ипостась» и «сущность» как терминов троического богословия свт. Василий, естественно (сообразуясь с вышеуказанной методологией), понимает их, исходя из изложенного «метафизического» значения:
«Итак, поелику слово наше открыло в Святой Троице и общее и отличительное: то понятие общности возводится к «сущности»; а «ипостась» есть отличительный признак каждого Лица»[23].
Несколько выше святитель говорит о том же более подробно:
«Что представляет тебе когда-либо мысль о существе Отца (ибо душа не может утверждаться на одной отдельной мысли, будучи уверена, что существо сие выше всякой мысли), то же представляй себе и о Сыне, а равно то же и о Духе Святом. Понятие несозданного и непостижимого есть одно и то же и Отца и Сына и Святого Духа. Не больше непостижим и не создан один, и не меньше другой. Но когда в Троице нужно по отличительным признакам составить себе неслитное различение, тогда к определению отличительного возьмем не вообще представляемое, каковы, например, несозданность, или недосязаемость никаким понятием, или что-нибудь подобное сему, но будем искать того одного, чем понятие о Каждом ясно и несмесно отделится от представляемого вместе. <...> в общем понятии сущности не слитны и не сообщи признаки, усматриваемые в Троице, какими выражается отличительное свойство Лиц, о Которых преподает нам вера, потому что каждое Лице представляется нами отлично по собственным Его признакам, так что по упомянутым признакам познано различие ипостасей»[24].
Как видим, ни в онтологии, ни в антропологии, ни даже в «таинственных догматах» свв. отцы не вставали на путь «деконцептуализации понятия». И никакого «нового смысла» придать термину «человеческая ипостась», опираясь, например, на текст свт. Василия, невозможно. Кажется, что и Лосский это понимает и видит. И если он не упоминает свт. Василия, то упоминает свт. Григория Богослова, говоря, что тот «сохраняет термин «ипостась» за индивидуумами разумной природы, в точности, как это делает Боэций в свое определении «substantia individual rationalis naturae» — «индивидуальная субстанция разумной природы»[25]. В другом, уже цитированном нами, месте статьи вообще прямо говорится, что «на языке богословов — и восточных, и западных — термин «человеческая личность» совпадает с термином «человеческий индивидуум». Несколько ранее Лосский заостряет внимание на том, что свв. отцы «не отошли от понимания человеческой личности как «индивидуальной субстанции», после того как они преобразовали это понятие применительно к троическому богословию»[26].
Разумеется, позиция свв. отцов должна показаться Владимиру Николаевичу «неожиданной» и по меньшей мере непоследовательной. Не соглашаясь с отсутствием в христианской антропологии «нового смысла термина «человеческая ипостась», Лосский, как мы видим, стремится «обнаружить другое понимание личности», обращаясь к «невыраженным основаниям» такого искомого «нового смысла», которые, на взгляд Лосского, «сокрыты во всех богословских или аскетических вероучениях». Однако заранее можно предположить, что поиски автора не могут увенчаться успехом. Дело в том, что, хотя наши слова о невнимании Лосского к святоотеческому учению об ипостаси и усии не означают, будто мы допускаем мысль о незнакомстве Владимира Николаевича с текстами свв. отцов (нелепо было бы полагать, что ему не было известно письмо свт. Василия Великого!), но, мы думаем, они были оставлены без должного внимания и им не было придано подобающего значения. Поиски, ведущиеся методом, противоположным святоотеческому, не могут привести к аутентичному пониманию «невыраженных оснований» святоотеческого учения, так же как неизбежно приводят к игнорированию выраженных[27].
Мы все-таки не считаем возможным остановиться на выражении уверенности в безуспешности поисков Лосского, и надеемся обосновать наше мнение.
Итак, Лосский полагает, что «синонимы» «ипостась» и «усия» при использовании их в троическом богословии перестают быть синонимами. Но и различать их как «сущность вообще» и «конкретную сущность» нельзя. Из выше цитированного письма свт. Василия ясно, что в святоотеческом богословии, напротив, термины «усия» и «ипостась» вполне сохраняют свое, Лосским отвергаемое, значение «общего и и отличительного». Ясно, впрочем, и то, что свв. отцы, утверждая, что в богословии употребляются все-таки понятия, а не знаки, лишенные собственного значения, отчетливо сознавали границы применимости этих понятий и указывали метод, позволяющий избегать опасной иллюзии, будто термин в богословии может претендовать на большее, чем определено, например, свт. Василием Великим: «Многие и различные имена, взятые в собственном значении каждого, составляют понятие, кончено, темное и весьма скудное, но для нас достаточное»[28].
Для уточнения понимания святоотеческого учения о «преобразовании понятий» обратимся к одному месту из «Опровержения Евномия» свт. Григория Нисского, произведения, которое является одним из важнейших источников, дающих представление о том, что сегодня мы назвали бы «святоотеческой философией языка».
«Иное, — говорит свт. Григорий, — означают имена у нас, другое же значение представляют о превысшей силе. Ибо и во всем прочем Божеское естество великим средостением отделено от человеческого; и опыт не показывает здесь ничего такого из всего, о чем делаются в оном заключения по каким-то догадкам и предположениям. Таким же образом и в означаемом именами хотя есть некая подобоименность человеческого с вечным, но по мере расстояния естеств и означаемое именами раздельно»[29].
В другом месте сочинения свт. Григория читаем:
«Божество по отношению к [человеческому] естеству, остается недоступным, недомыслимым, превышающим всякое разумение, получаемое посредством умозаключений. Человеческий же многозаботливый и испытующий разум, при помощи возможных для него умозаключений, стремится к недоступному и верховному естеству и касается его; он не настолько проницателен, чтобы ясно видеть невидимое, и в то же время не вовсе отлучен от всякого приближения, так чтобы не мог получит никакого гадания об искомом; об ином в искомом он догадывается ощупью умозаключений, а иное усматривает некоторым образом из самой невозможности усмотрения, получая ясное познание о том, что искомое выше всякого познания; ибо что не соответствует Божескому естеству, разум понимает, а что именно должно думать о нем, того не понимает»[30].
Святитель очень хорошо видел невозможность высказать на человеческом языке превышающее и разум человеческий, и слово:
«Итак, поелику Божество превосходнее и выше всякого означения именами; то научились мы молчанием чествовать превышающее и слово, и разумение»[31].
В случае, если все же мы оказываемся вынуждаемы говорить, то, как кажется на первый взгляд, свт. Григорий утверждает нечто подобное мысли Лосского о «преобразовании понятий», тем более, что он приводит мнение, весьма напоминающее мнение Лосского: «следует <...> искать в слове какого-либо другого значения, кроме общего и представляющегося с первого взгляда»[32]. Коль скоро человеческий язык не способен выразить невыразимое, то свт. Григорий призывает: употребляя слова в области богословской, «отмещем первоначальное о них понятие»[33]. Но, однако же, сходство метода «преобразования понятий» у свт. Григория и Лосского оказывается таковым только на первый взгляд.
Следует видеть, — говорит святитель Григорий, — соответственное и приличное подлежащему значение каждого из сказанных имен, чтобы уклонением от правого разумения не погрешить нам в учении благочестия»[34].
И хотя мы «представляем себе нечто иное»[35], нежели когда применяем слова в их прямом значении, но «многими именами, соответственно различным понятиям, выражая то или другое представление о Нем, именуем Его Божеством, извлекая из разнообразных и многоразличных обозначений Его некоторые общие наименования для познания искомого»[36]. И «никто не осмелится сказать, что наречение имен не имеет собственного смысла и значения»[37], ибо «человеколюбивое домостроительство Святого Духа, преподавая нам божественные тайны, посредством вместимого для нас научает превышающему всякое слово»[38].
Метод «преобразования понятий» свт. Григория Нисского (как и вообще метод свв. отцов) кратко выражен в словах его:
«Хотя именование берется из дольнего обычая, в понятиях переложенное в высшее значение, говорится в собственном смысле»[39].
И именно употребление слов «ипостась» и «усия» в собственном смысле привело свв. отцов к необходимости утверждать непостижимость и невместимость для разума догмата о Троице, говорящего одновременно о единстве усии и троичности Ипостасей в Боге, так как с точки зрения человеческого разума догмат о Троице — абсурден (не может быть одна сущность у различных «конкретных сущностей» — ипостасей). Но «в догматах, превышающих разум, в сравнении с тем, что постигает рассудок, лучше вера, которая учит нас о раздельном в ипостаси и о соединенном в сущности»[40].
Напомним, что задачей Лосского было обнаружение «нового смысла» термина «человеческая ипостась». Мы не увидели, каким образом разыскания в троическом богословии помогли Владимиру Николаевичу. Да и сам он оставляет триадологию и приступает к разрешению своей задачи уже вне связи с ней.
«Посмотрим прежде всего, — пишет Лосский, — может ли понятие личности человека, сведенное к понятию φυσις, или «индивидуальная природа», удержаться в контексте христианской догматики»[41].
Это Лосский намерен сделать, опираясь на попытку осмысления Халкидонского догмата:
«Халкидонский догмат, 15-е столетие которого не так давно отметил весь христианский мир, говорит нам о Христе, «единосущном Отцу по Божеству и единосущном нам по человечеству»; мы именно потому можем исповедовать реальность воплощения Бога, не допуская никакого превращения Божества в человеческую природу, никакой неясности и смешения нетварного с тварным, что различаем Личность, то есть Ипостась, Сына и Его природу, или сущность: Личность, которая не из двух природ (εκ δυο φυσεων), но в двух природах (εν δυο φυσεσιν). Выражение «ипостасное единство», несмотря на все свое удобство и общепринятость, не подходит: оно наводит на мысль о некой природе, или человеческой сущности, которая бы предсуществовала воплощению и затем вошла в Ипостась Слова»[42].
Здесь не может не насторожить нежелание Владимира Николаевича считаться с общепринятой терминологией. Не совсем понятно, почему вдруг выражение «ипостасное единство» непременно наводит на мысль о предсуществовании человеческой природы Христа до воплощения. Да и что такое эта «общепринятость» выражения, которая Лосскому «не подходит»? Ужели сие выражение принято в среде беспечных болтунов, не привыкших к серьезному отношению к слову и поэтому не замечающих ошибок, на которые их речи «наводят»? Оставим пока эти недоумения без ответа и продолжим цитирование текста Лосского.
«Но человеческая природа, или субстанция, принятая на Себя Словом, получает свое существование в качестве этой природы, этой частной субстанции, только с момента воплощения, то есть она сразу связана с Лицом, Ипостасью, Сына Божия, ставшего человеком. Это означает, что человечество Христа, по которому Он стал «единосущным нам», никогда не имело никакой другой ипостаси, кроме Ипостаси Сына Божия; однако никто не станет отрицать, что Его человеческая природа была «индивидуальной субстанцией», и Халкидонский догмат настаивает на том, что Христос «совершенен в своем человечестве», «истинный человек» — из разумной души и тела (εκ ψυχης λογικης και σωματος). Потому человек Христос таков же, что и другие частные человеческие субстанции, или природы, которые именуются «ипостасями», или «личностями»[43].
Очевидно, однако, что Ипостась Христа не такова, каковы «ипостаси», или «личности» других людей. Лосский ищет из созданного им противоречия выход. И находит:
«Однако если бы применили это понимание ипостаси ко Христу, то впали бы в заблуждение Нестория и разделили ипостасное единство Христа на два друг от друга «личностных» существа. Ведь, по Халкидонскому догмату, Божественное Лицо соделалось единосущным тварным лицам, то есть Оно стало Ипостасью человеческой природы, не превратившись в ипостась, или личность, человеческую. Следовательно, если Христос — Лицо Божественное, будучи одновременно совершенным человеком по Своей «воипостазированной» природе, то надо признать (по крайней мере за Христом), что здесь ипостась воспринятой человеческой природы нельзя свести к человеческой субстанции, к тому индивидууму, который был переписан при Августе наряду с другими подданными Римской империи. И в то же время мы можем сказать, что переписан по своему человечеству был именно Бог, и потому именно можем мы это сказать, что этот человеческий индивидуум, этот «атом» человеческой природы, перечисляемый наряду с другими атомами, не был «человеческой личностью».
По всей видимости, ради того, чтобы быть последовательными, нам необходимо отказаться от обозначения индивидуальной субстанции разумной природы термином «личность» или «ипостась»[44].
Попытаемся подробно разобраться в сказанном. И для начала разрешим недоумения, возникшие несколько ранее. Во-первых, отметим, что словосочетание «ипостасное единство» не удалось, как мы только что видели, исключить из своего богословского словаря и самому Владимиру Николаевичу. Во-вторых, приведем два примера использования этого выражения людьми, которых никому не придет на ум заподозрить в легкомыслии или безответственном следовании расхожим представлениям[45].
Прп. Анастасий Синаит:
«Соединение есть общность в сочетании разделенных вещей. Оно называется «соединением», потому что сгоняет или собирает воедино вещи. Можно говорить о пяти видах соединения: смешивающем, например, соединение вина и воды; делимом, например, соединение человека с человеком; относительном, например, соединение народов в вере; складывательном[46], например, соединение золота с золотом. Единение же природ Христа превышает все эти виды соединений и называется ипостасным. Ипостасное единение есть совместное соединение двух природ в утробе Святой Богородицы. Ведь ни тело, ни душа не существовали там до Бога Слова, но одновременно стали существовать там плоть и Бог Слово; одновременно Бог Слово и одновременно разумная и одушевленная плоть возникли в Нем. И как мне кажется, наше зачатие есть прообраз единения Христова: совместным образом сочетаются при зачатии душа и тело, ибо ни тело не существует само по себе, ни душа не предшествует телу»[47].
Прп. Иоанн Дамаскин:
«Совершенный ли Бог Христос и совершенный ли Человек и после соединения природ в ипостаси? Да, конечно. Совершенный в Божестве и совершенный в человечестве. Воистину так. А Божество и человечество одна природа или две? Две, поистине, — ведь одна природа божества и другая человечества. Одна же и другая не одна, но две. Итак, две природы во Христе, и в двух природах Христос после ипостасного соединения, если Он совершенный Бог и совершенный Человек после соединения, совершенный в Божестве и совершенный в человечестве»[48].
В обоих приведенных текстах речь идет о том же самом, о чем говорит и Лосский. — о том, как нам следует понимать соединение двух природ в одной Ипостаси Бога Слова, и в каком смысле здесь употребляется слово «ипостась». Лосский приходит к выводу, что «сформулировать понятие личности человека мы не можем и должны удовлетвориться следующим: личность есть несводимость человека к природе»[49].
«Именно несводимость, — говорит Лосский, — а не «нечто несводимое» или «нечто такое, что заставляет человека быть к своей природе несводимым"
Невозможность сформулировать понятие ипостаси, личности есть закономерное следствие отказа Лосского всерьез относиться к формулировкам свв. отцов. Это для Владимира Николаевича, а не для блж. Феодорита использование терминов «ипостась» и «усия» для различения частного и общего, конкретной сущности и сущности вообще оказывается «историческим курьезом». В своем обращении к Халкидонскому догмату Лосский упускает из внимания один важный синоним термина «индивидуум» (in-dividuum — неделимый = α-τομος), использованный отцами Собора для формулировки способа соединения природ во Христе в одно лицо и одну ипостась: α-διαιρετος (нераздельно). Если учесть, что греческие слова ατομος и α-διαιρετος имеют синонимическое значение (буквально, не-разрезаемого и не-разрываемого соответственно), то становится понятно, насколько далеко представление Лосского об ипостаси и ипостасном единении от понимания действительного святоотеческого учения (достаточно ясно сформулированного).
В уже цитированном нами сочинении прп. Анастасия Синаита говорится:
«Согласно святым отцам, лицо или ипостась есть нечто особенное по сравнению с общим, ибо природа есть некое общее начало в каждой вещи, а ипостаси суть отдельные особи. Например, природа или сущность есть единое Божество, а ипостасей в Божестве три: Отец, Сын и Святой Дух — три Лица или Образа, единая же сущность или род»[50].
Далее прп. Анастасий подробно показывает, каким образом следует различать понятие сущности, или природы, и ипостаси в случае, если мы говорим не о Троице, а о мире и человеке. Способ различения тот же самый (и он не может быть иным, так как методология прп. Анастасия в уразумении значений слов та же, что у других свв. отцов), что и в троическом богословии.
Но ипостась понимается не только как «особенная сущность», но и как целокупное, неделимое существо. Отсюда иное, нежели у Лосского, понимание термина «воипостасирование». Когда Лосский говорит, что ипостась «воипостасирует» свою природу, то это звучит в том смысле, который означает скорее «об-ипостасирует», то есть придает некую особенность и оформленность природе, которая воипостасируется ипостасью. Святоотеческое понимание термина — другое. Обратимся к нему, памятуя, что для нас особую важность имеет христологический аспект такого понимания.
«Святую плоть Христа мы называем не лицом, а сущностью <...> Невозможно называть ее ипостасью, поскольку эта плоть неотделима от Бога Слова; ибо ипостасью называется отдельное лицо. Поэтому мы считаем эту плоть Христову не ипостасью, но воипостасным»[51].
Неотделимость человечества Христова от Его божества и позволяет говорить об ипостасном соединении двух природ в одну Ипостась Слова. Человечество Христово не есть ипостась потому, что не имеет и никогда не имела само-стоятельного, отдельного от Божества существования.
Так же рассуждает и подаривший Владимиру Николаевичу «неожиданность» прп. Иоанн Дамаскин: «Итак, природа, согласно святым отцам, есть общий и неопределенный, то есть наиболее видовой вид, как человек, конь, бык, а ипостась — частность, существующая сама по себе, как Петр, Павел, Иоанн. Ибо природа есть общность, охватывающая многих <...> А ипостась есть некая сущность вместе с привходящими свойствами, действительно и на деле получившая в удел самостоятельное существование отдельно и обособленно от прочих ипостасей, нечто сообщающееся с неделимыми существами того вида по определению природы, но имеющее различие с подобными себе по виду и природе в некоторых привходящих и отличительных особенностях»[52].
И несколько далее:
«Христа мы называемой единой сложной ипостасью — ибо, будучи одной из Божественных Ипостасей, благоволением Отчим Он воплотился от Духа Святого и Марии Приснодевы и Богородицы и стал совершенным Человеком не превращением, или слиянием, или изменением, но принятием плоти, одушевленной разумной и мыслящей душой, оставшись Тем же, Чем и был, Богом совершенным, и ставший тем, чем не был, совершенным Человеком, восприняв природу, не ипостась, природу не внеипостасную, но в Нем обретшую ипостась и Его имеющую ипостасью — ибо она стала не чьей-то там плотью, но Бога Слова. Ибо о всякой плоти и всякой душе говорится, что она чья-то, и она принадлежит кому-то и его имеет ипостасью, ведь плоть и душа Петровы имеют ипостасью Петра, и не имеет одну ипостась душа Петрова, а другую — плоть его. Ибо одну природу имеет душа, и другую плоть, душа бестелесную и невещественную, а тело вещественную, но поскольку они принадлежать одному, они имеют одну ипостась»[53].
Этот отрывок, как и предыдущий, дает нам ясное видение пути, которым может быть разрешен (в согласии со свв. отцами) «парадокс», обнаруженный Лосским в связи с переписью подданных Римской империи при Августе. Мы попытаемся зайти к разрешению этого «парадокса» не со стороны христологии, а со стороны святоотеческой антропологии.
Итак, кто и что же подлежало переписи? Человеческие ипостаси, личности. Если следовать свв. отцам, то надо сказать, что переписаны были ипостаси — атомы, индивидуумы. Но ведь человек — сложная ипостась, нераздельно соединяющая в себе две природы — душу и тело, как сказано у прп. Иоанна: «из различных природ может образоваться одна сложная ипостась <...> каждая ипостась людей состоит из двух природ, а именно души и тела, и сохраняет их в себе неслиянными...»[54] Но, спрашивается, если переписаны могут быть ипостаси по именам, то как они могут быть описаны? Сегодня для того, чтобы описать человека и указать на него, как на ипостась, отдельную и отличную от других, используется фотография (например, в паспорте). Что описывает фотография? Внешний вид человека. Внешний же вид человека есть, собственно, внешний вид личности, ипостаси. Это то, что свв. отцы называли «ипостасными свойствами», то есть то, что характеризует ипостась, как она может быть дана в опыте другому человеку и описана и отличена от других.
«А ипостасное свойство, — поясняет прп. Иоанн Дамаскин, — то, которое отделяет ипостась от другой ипостаси, как курносый нос, белая или темная кожа, плешь и тому подобное — ведь не всякий человек курносый, но один курносый, другой крючконосый, а третий с прямым носом, и не всякий человек белокожий, но один белокожий, другой темнокожий, а третий смуглый, и не всякий человек плешив, но один плешив, а другой волосат, то есть густоволос»[55].
Таким образом, отвечая на поставленный нами вопрос, скажем, что переписи подлежали ипостаси, описуемые по своим ипостасным свойствам. Именно то, что человек является сложной ипостасью, включающей в себя душу и тело, мы можем утверждать, что, имея дело непосредственно с телом, переписчик именует конкретную ипостась — человека. То же самое мы можем повторить, имея в виду участие в переписи Христа. «Атом» человеческой природы, перечисляемый наряду с другими атомами, не был человеческой личностью». Так говорит Лосский. Это — верно. Но это верно не потому, что ипостась есть некая «несводимость», а потому, что человеческая природа Спасителя не-отделима от Его божественной природы и составляет с ней единую Ипостась. Переписи подлежал Богочеловек, в сложной ипостаси Которого неслиянно и не-раздельно (то есть ин-дивидуально) соединились две природы: божественная и человеческая. Но описана сложная Ипостась Бога Слова могла быть только по ипостасным Его свойствам, по внешнему телесному Его виду. Иисус — имя Ипостаси Бога Слова. Но переписчик имеет дело только с тем, что видит своими глазами — человеческие ипостасные свойства Богочеловека. А это значит, что Спаситель подлежал переписи в том же самом смысле, что и другие индивидуумы-ипостаси: как личность, имеющая ипостасные личные свойства. Мы могли бы привести еще большое количество текстов в подтверждение этой мысли, но сейчас обратим внимание на один, важный как по своей авторитетности, так и по значению, которое он имеет в контексте нашего разговора, рассматривающего христологию и антропологию в связи с догматом иконопочитания. Отвергаемое Лосским определение термина «ипостась» было утверждено соборно и, соответственно, освящено авторитетом Собора — VII Вселенского:
«Ипостасью мы называем какую-либо разумную сущность с ее свойствами»[56].
Определенно, нет никаких оснований для того, чтобы, следуя Лосскому, счесть «необходимым» «отказаться от обозначения индивидуальной субстанции разумной природы термином «личность» или «ипостась». Напротив, следует сказать, что именно это понимание термина «ипостась» является естественным и единственно приемлемым как в контексте святоотеческой триадологии, так и христологии и антропологии.
Как видим, ряд методологических ошибок и слишком поспешное отвержение святоотеческого взгляда на понимание термина «ипостась» привели Владимира Николаевича к существенному отступлению от святоотеческого учения при попытке раскрытия «богословского понятия человеческой личности». Кроме того, представляется очевидной возможность уклонения Лосского и от святоотеческого учения об образе, так как оно неразрывно связано с учением об ипостаси и ипостасных свойствах. Но попытаемся уточнить, к чему же на самом деле по учению Церкви несводима человеческая ипостась, человеческая личность. Разумеется, она не сводима к природе вообще, ибо есть, как мы убедились, конкретная сущность[57]. Но приведенная нами цитата из Деяний VII Вселенского Собора имеет продолжение, которое позволяет более глубоко уразуметь еще один способ различения терминов «ипостась» и «природа». Вот как выглядит интересующий нас фрагмент целиком:
«Ипостасью мы называем какую-либо разумную сущность с ее свойствами, — имя заимствовано от υφεσταναι — стать под что-либо, взять на себя что-либо..., а естеством называем предмет, который существует сам по себе и не нуждается в другом для своего существования, — имя — от πεφυκεναι (от φυω, как и φυσις— К. Ш.) — произойти, появиться на свет»[58].
Из данного фрагмента нам становится ясно, что ипостась человеческая отличалась свв. отцами Собора не только от природы (естества) как частная природа от общей, но и (когда речь шла о сложной ипостаси) от конкретной сущности «самой по себе». Но — не тем способом, который предлагает Лосский, не потому, что ипостась есть неуловимая «несводимость», а потому что человеческая ипостась не может быть сведена к своим частям, составляющим ее как единое целое — человека. И душа, и тело могут иметь существование само по себе, но, сами по себе существуя, они составят не единую человеческую ипостась, а, отдельно, — душу и, отдельно — труп.
Но «не тем ли более неотделимо от плоти неописуемое естество Бога Слова?» — спрашивают отцы Собора[59]. Показательно, что, например, упоминавшийся нами прп. Анастасий Синаит, отстаивая две природы и одну ипостась во Христе, возражает против довода, что полагая две природы, необходимо полагать и две ипостаси, «ибо нет природы неипостасной», опираясь не на апелляцию к «несводимости», но предлагая вопрос: «бывает ли рождение безипостасным?»[60]. Развернутый ответ мы находим в том же сочинении прп. Анастасия, и мы уже приводили его, когда цитировали слова преподобного об ипостасном единении. Но теперь, кажется, они отчетливее раскрывают свой смысл:
«Ипостасное единение есть совместное соединение двух природ в утробе Святой Богородицы. Ведь ни тело, ни душа не существовали там до Бога Слова, но одновременно стали существовать там плоть и Бог Слово; одновременно Бог Слово и одновременно разумная и одушевленная плоть возникли в Нем. И как мне кажется, наше зачатие есть прообраз единения Христова: совместным образом сочетаются при зачатии душа и тело, ибо ни тело не существует само по себе, ни душа не предшествует телу»[61].
Тварь, таким образом, не есть «одновременно «природная» и «ипостасная», как думал Лосский, но — одновременно и «совместным образом сочетающиеся» душа и тело — ипостась. И это единение души и тела прп. Анастасий называет «прообразом единения Христова», то есть указывает нам способ применения термина «ипостась» в христологии.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что никакого «нового смысла» термина «человеческая ипостась» (равно как и термина «ипостась» применительно к троическому богословию) обнаружить невозможно. И бессмысленно искать этот «новый смысл» в качестве таинственного «невыраженного обоснования, сокрытого во всех богословских или аскетических вероучениях». Бессмысленно потому, что и несокрытого понимания термина «ипостась» достаточно, дабы успешно разрешать встающие (и поставленные самим Лосским) проблемы в области триадологии, христологии и антропологии, сообразуясь со святоотеческой методологией и святоотеческим учением.
Мы выразили сомнение, что отказ Лосского от традиционного понимания церковного термина «ипостась» не повлиял на аутентичность понимания Владимиром Николаевичем святоотеческого учения об образе. Теперь мы переходим к доказательству обоснованности наших сомнений.
2. Учение Вл. Н. Лосского об образе
Мы сказали, что проблема образа находится в прямой связи с пониманием термина «ипостась». То же самое говорит и Лосский, обращаясь к «образу» в последнем абзаце статьи «Богословское понимание человеческой личности»:
«...уровень, на котором ставится проблема человеческой личности, превосходит уровень онтологии, как ее обычно понимают. И если речь идет о некой мета-онтологии, один только Бог может знать ее — Тот Бог, Которого повествование книги Бытия являет нам приостанавливающимся в Своем творчестве, чтобы сказать на Предвечном Совете Трех Ипостасей: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт., 1, 26)[62].
Кажется, Лосский приходит к такому пониманию личности, которое связывает понятие «личности» с творением человека по образу Божию.
В книге «Очерк мистического богословия Восточной Церкви» в главе «Образ и подобие» Владимир Николаевич предваряет свое исследование богословского понимания образа Божия в человеке следующим утверждением:
«Если мы захотим найти в творениях свв. отцов точное определение того, что именно соответствует в нас образу Божию, то рискуем растеряться среди различных утверждений, которые хотя друг другу и не противоречат, но тем не менее не могут быть отнесены к какой-то одной части человека»[63].
Это утверждение поясняется Лосским следующим образом:
«Образ Божий в человеке, поскольку он — образ совершенный, постольку он, по св. Григорию Нисскому, и образ непознаваемый, ибо, отражая полноту своего Первообраза, он должен также обладать и Его непознаваемостью. Поэтому мы и не можем определить, в чем состоит в человеке образ Божий»[64].
Очевидно, что, пытаясь постичь богословское содержание понятия образа Божия в человеке, Лосский, как и в случае с термином «ипостась», отказывается от поисков ясно сформулированного святоотеческого учения. Признание непознаваемости образа как отражение непознаваемости Первообраза не означает, однако, что святоотеческое учение по этому вопросу настолько хаотично и запутанно, что нам грозит опасность «растеряться среди различных утверждений». Как мы надеемся показать, в творениях свв. отцов возможно найти учение ясно и четко сформулированное, дающее определенное основание к тому, чтобы «различные утверждения» «могли быть отнесены к какой-то одной части человека», и основание для понимания способа отнесения[65].
Владимир Николаевич обнаруживает в определениях образа Божия в человеке, данных свв. отцами, «множественность и разнообразие», которые «показывают, что мысль свв. отцов избегает ограничивать то, что в человеке сообразно Богу, какой-либо одной частью его существа»[66]. Но это заключение неправильно. Святые отцы учили о том, что по образу Божию сотворена именно часть существа человека — его душа. Обратимся к материалам I Вселенского Собора.
«Возражение философа.
В предыдущих вопросах мы говорили уже, что Бог не имеет человеческого образа; какой же смысл должно иметь это изречение: по образу Нашему и по подобию? — скажите нам. Место это представляет для нас немалое затруднение.Ответ св. Собора через Осию Кордубского.
Слово: по образу — употреблено здесь не по отношению к составу телесному, но по отношению к душе. Слушай ты и пойми. Бог, благий по существу Своему, вложил в разумное существо человека то, что называется по образу Его и по подобию, как то: благость, простоту, святость, чистоту, искренность, честность, блаженство и т. п., дабы что в Боге есть по самому существу Его, то самое созданный Им человек мог иметь в разумной части своей, по благодати Божией. И как искусные живописцы изображают на картинках образы предметов не одной и той же краской, но всегда разными, так и Бог даровал созданному Им человеку в разумной храмине его души, то есть в уме, силу различными добродетелями достигать того, чтобы устрояться по образу Его и по подобию»[67].
Из текста Деяний мы можем понять, что вся множественность и все разнообразие определений относятся Собором к душе и являются описанием ее свойств. Мы затруднились бы найти у свв. отцов иное описание сотворенной по образу Божию души, кроме как через характеризующие ее свойства, ибо сущность души (как и вообще любая сущность) по святоотеческому учению — непознаваема, а познаваемы только свойства. В том же, что именно душа сотворена по образу Божию, отцы единодушны во всех известных нам текстах, посвященных этому вопросу (единственное исключение — св. Ириней Лионский — будет рассмотрено ниже). Мы не станем приводить все доступные нам примеры, ограничившись (чтобы не увеличивать без нужды объем нашего сочинения) только теми сочинениями и авторами, на которых ссылается Лосский.
Начнем мы со свт. Григория Нисского, которому Лосский приписывает мнение, будто «не только душа, но также и человеческое тело, как сотворенное по Его образу, участвует в этой сообразности Богу»[68]. Излагая взгляды свт. Григория, Лосский отсылает нас к сочинению «Об устроении человека». Однако там мы находим иное, чем полагает Владимир Николаевич:
«Человеческое естество есть среднее между двух неких, одно от другого разделенных и стоящих на самых крайностях, между естеством Божественным и бестелесным, и между жизнью бессловесною и скотскою; потому что в человеческом составе можно усматривать часть того и другого из сказанных естеств, из Божественного — словесность и разумность <...>, и из бессловесного — телесное устроение и образование...»[69]
Свт. Григорий, как видим, считает душу словесную и разумную образом Бога, а тело («телесное устроение») — образом мира, подчеркивая двоякую сообразность человека — по душе его и телу. Он не позволяет думать, что и тело сотворено по образу Божию:
«В чем же по церковному учению состоит человеческое величие? Не в подобии тварному миру, но в том, чтобы быть по образу естества Сотворившего. Посему, что же означается словом «образ»? Может быть, спросишь: «Как уподобляется телу — бестелесное, вечному — временное, неизменяемому — что круговращательно изменяется, бесстрастному и нетленному — страстное и тленное, чуждому всякого порока — что всегда с ним живет и воспитывается?» Великое расстояние между тем, что умопредставляется по Первообразу, и что созидается по образу. Образ, если он подобен Первообразу, в собственном смысле называется образом; если же подражание далеко от предположенного, то таковое есть нечто иное, а не образ того, чему подражают. Как же человек, — существо смертное, страстное, скоропреходящее есть образ естества беспримесного, чистого, всегда сущего? <...>
И Божие слово, изрекшее, что человек создан по образу Божию, не лжет; и жалкая бедность естества человеческого не уподобляется блаженству бесстрастной жизни».[70]
Объяснение этому кажущемуся противоречию святитель полагает в том, что «иное есть — созданное по образу, и иное — ныне оказывающееся бедственным»[71]. За этими словами и следуют те, что приведены нами в первой цитате. Понятно, надеемся, что «иное, созданное по образу Божию», есть душа, а «иное бедственное» — тело.
Не больше оснований считать, что взгляд о сообразности Богу и души, и тела присущ свт. Григорию Паламе. Лосский приводит, впрочем, текст из «Ста пятидесяти глав...», свидетельствующий, на его взгляд, об обратном:
«Человек, по мысли св. Григория Паламы, больше «по образу Божию, нежели ангелы, потому что его соединенный с телом дух обладает живительной силой, которой он одушевляет свое тело и управляет им. Это — та способность, которой нет у ангелов, духов бестелесных, хотя они и ближе к Богу в силу простоты своей духовной природы»[72].
Из этой цитаты можно вывести только, что дух человека больше по образу Божию, нежели ангелы, ибо имеет способность, которой ангелы лишены, — одушевлять тело и управлять им. Но нельзя вывести, чтобы поэтому тело было сотворено по образу Божию. Однако Лосский опускает продолжение фразы свт. Григория, которое снимает всякую возможность интерпретировать текст глав 38-й и 39-й названного сочинения в желаемом Лосскому смысле:
«Наоборот, умное и разумное естество души, поскольку оно было сотворено вместе с земным телом, получило от Бога и животворящий дух, благодаря которому оно сохраняет и животворит соединенное с ним тело. Этим убеждаются люди разумные относительно того, что человеческий дух, животворящий тело, есть умная любовь; он — из ума и слова, в уме и слове есть и в себе содержит ум и слово. Благодаря ему душа обладает естественным образом столь вожделенной связью с собственным телом, что никогда не желает покидать его и вообще стремится не покидать его, если только какая-либо серьезная болезнь не принудит ее к этому.
Следовательно, только одно умное и разумное естество души обладает и умом, и словом, и животворящим духом; только оно одно, более чем нетелесные Ангелы, было создано Богом по образу Его»[73].
Представляется, что данный текст однозначно свидетельствует против интерпретации Лосского[74].
Также не вполне удовлетворительно мнение Лосского, что в творениях прп. Макария Египетского об образе Божием в человеке можно найти лишь то, что «образ Божий представляется в двойном аспекте: это, прежде всего, формальная свобода человека, свобода воли или свобода выбора, которая не может быть уничтожена грехом; с другой стороны, это «небесный образ» — положительное содержание нашей сообразности, каковым является наше общение с Богом, в силу которого человеческое существо было до грехопадения облечено Словом и Духом Святым»[75]. Сказанное, в общем-то верно. Но должно быть понимаемо в связи с тем, чего аспектами являются данные характеристики.
«Пусть никто не считает, — учит прп. Макарий, — душу чем-то малым, как живущую в малом теле и целиком ограниченную этим телом. Посмотри, она и в теле, и вне тела, и вся в нем, и вся вне его разумом и помыслами. Великим сосудом и созданием сотворил Бог душу, чем-то драгоценным и прекрасным и превышающим все твари, — таким драгоценным творением, что она способна быть жилищем Божиим (Еф. 2, 22) и создана по подобию Его. В самом деле, душа имеет духовный и умный образ, приличествующий тонкости ее природы, как тело имеет свой образ, но душа есть истинный образ божий, и тот образ, живой и бессмертный, держит и несет на себе сей образ»[76].
Думаем, что и вышеприведенных цитат достаточно для доказательства мнения о приписании свв. отцами сообразности Богу именно и исключительно человеческой душе. Вместе с тем становится понятным, что «связь с собственным телом», животворение его и управление им составляют важную характеристику одного из свойств души, являющегося отображением свойства Первообраза — «царственного достоинства» души, ее «превосходства над чувственным космосом», того, что свт. Иоанн Златоуст называет «господством»[77].
Теперь обратимся к тексту сщмч. Иринея Лионского:
«Откуда же существо первозданного? — спрашивает сщмч. Ириней. — От воли и от мудрости Божией и от девственной земли. «Ибо Бог, — говорит Писание, — до сотворения человека еще не посылал дождя и не было на ней человека, чтобы возделывать землю» (Быт. 2, 5) От этой земли, когда она была еще девственною, Бог взял прах и создал человека, как начало нашего человечества. Для вторичного совершения этого человека Господь подчинил Себя порядку того же воплощения, родившись от Девы согласно с волею и мудростью Божиею, чтобы показать подобие Своего воплощения с воплощением Адама, и чтобы осуществилось написанное в начале: «человек по подобию и образу Божию» (Быт. 1, 26).
То правда, что в сочинениях сщмч. Иринея можно найти немало мест, где он прямо говорит о плоти, как сотворенной по образу Божию. Вот один пример:
«Бог прославится в Своем создании, делая его сообразным и подобным Своему Отроку. Ибо руками, то есть чрез сына и духа человек, а не часть человека создается по подобию Божию. Душа же и Дух могут быть частию человека, но никак не человеком; совершенный человек есть соединение и союз души, получающей Духа Отца, с плотию. Которая создана по образу Божию»[78].
Скажем ли, что сщмч. Ириней противоречит остальным отцам? Неужели он буквально понимал свои слова о «руках отца» и считал Бога телесным? Нет, конечно. Творение человека по образу Божию святитель понимает как «делание сообразным и подобным Своему Отроку», Сыну. Но сообразным Его человеческому образу, как видно из первого отрывка. Человек творится, по сщмч. Иринею, в предведении воплощения Бога Слова. Взгляд сщмч. Иринея очень интересен для нас тем, что удивительно ясно различает два образа в одной Ипостаси Бога Слова: невидимый Божественный и видимый человеческий, который тоже есть образ Божий, ибо есть образ человеческий Ипостаси Бога.
«Не другой есть Христос, — говорит сщмч. Ириней, — а другой — Иисус; но Слово Божие, Спаситель всех, Владыка неба и земли, Который есть Иисус, принявший плоть...»[79]
Поскольку эта плоть есть плоть Бога и человеческий Его образ, то сщмч. Ириней и говорит о сотворении всего человека по образу Бога «показавшего подобие Своего воплощения с воплощением Адама».
Таким образом, можно смело сказать, что мы вовсе не «рискуем растеряться среди различных утверждений» об образе Божием в человеке, как опасался Лосский. Все многообразие утверждений сводится, по сути, к двум: по образу Божественного естества сотворена душа человека, многоразличные свойства которой суть отражение свойств первообразной природы[80]; когда же говорится (у свт. Иринея Лионского) о творении по образу Божию и тела человеческого, то речь идет отворении по образу человеческого образа Христа-Логоса.
Не обращая внимания на без труда обнаруживаемое единство святоотеческих мнений об образе Божием в человеке, Лосский находит, вместо того, нечто другое. Сославшись на слова свт. Григория Нисского, что «человек освобожден от необходимости и не подчинен владычеству природы, но может свободно самоопределяться по своему усмотрению, ибо добродетель независима и сама себе госпожа», Владимир Николаевич делает вывод:
«Итак, как сотворенный по образу Божию человек является существом личностным, он — личность, которая не должна определяться своей природой, но сама может определять природу, уподобляя ее своему Божественному Первообразу»[81].
Смысл сказанного некоторым образом двоится. Не совсем ясно, сотворена ли по образу Божию человеческая личность, или — природа. Лосский пишет:
«Человеческая личность — не часть существа человеческого, подобно тому как Лица Пресвятой Троицы — не части Существа Божественного. Поэтому сообразность Богу не относится к какому-то одному элементу человеческого состава, но ко всей человеческой природе в ее целом»[82].
Дабы нам точнее понять то, что хочет сказать Лосский, продолжим цитирование:
«Первый человек, содержащий в себе всю совокупность человеческой природы, был также и единственной личностью: «Ибо имя Адам, — говорит св. Григорий Нисский, не дается предмету тварному, как в последующих повествованиях. Но сотворенный человек не имеет особого имени, это всечеловек, то есть заключающий в себе все человечество. Итак, благодаря этому обозначению всеобщности природы Адама мы приглашаемся понять, что Божественное Провидение и Сила охватывают в первозданном весь род человеческий. Ибо образ Божий не заключен в одной части природы, ни благодать не заключена в одном только индивиде среди тех, которые относятся к нему, но действие их распространяется на род человеческий в целом. <...> Нет никакого различия между человеком, образованным в начале создания мира, и тем, который придет в конце его: они одинаково носят в себе образ Божий...» «Следовательно, человек, созданный по образу Божию, это природа, понятая как целое. Она же имеет в себе подобие Божие. Божественный образ, свойственный личности Адама, относится ко всему человечеству, по «всечеловеку». Поэтому в роде Адама умножение личностей, из которых каждая сообразна Богу, можно было бы сказать, множественность образа Божия во множестве человеческих ипостасей, совершенно не противоречит онтологическому единству природы, общей всем людям. Наоборот, человеческая личность не может достичь полноты, к которой она призвана, не может быть совершенным образом Божиим, если она присваивает себе часть природы, считает ее своим личным достоянием. Ибо образ Божий достигает своего совершенства только тогда, когда человеческая природа становится подобной природе Божией, когда она стяжает полное приобщение нетварным благам. Однако существует только одна природа, общая для всех людей, хотя она и кажется нам раздробленной грехом, разделенной между многими индивидами»[83].
Даже в таком виде процитированный Лосским текст свт. Григория Нисского не дает оснований для сделанных умозаключений. То, что «образ Божий не заключен в одной части природы, ни благодать не заключена в одном только индивиде среди тех, которые относятся» к роду человеческому, далеко не означает, будто существование отдельных индивидов — последствие грехопадения. О какой «общей природе» говорит Лосский? Ясно, что «человеческая личность — не часть существа человеческого». Но что можно сказать о сотворенной по образу Божию человеческой природе? По Лосскому «сообразность Богу не относится к какому-то одному элементу человеческого состава, но ко всей человеческой природе в ее целом». Следует ли это понимать так, что сообразны Богу и душа, и тело? Очевидно, так. Но зададимся вопросом: проистекает ли из этих рассуждений, что все «личности» имеют одну душу и одно тело на всех, а разнообразие и число есть лишь то, что «кажется»? Но насколько такая мысль может быть признана соответствующей православному учению о человеке, а не, например, учению Упанишад об Атмане, представлению Махаяны о Космическом Теле Будды, платоновской мысли о космосе как живом существе, наделенном душой и умом, или каббалистическому повествованию об Адаме Кадмоне?!
Вопрос наш прозвучит еще более уместно и, вместе с тем, — риторически, если мы восполним лакуну, возникшую в цитате из свт. Григория по воле Лосского: «
А признаком сему то, что всем равно дарован ум, все имеют способность размышлять, наперед обдумывать и все прочее, чем изображается Божественное естество в созданном по образу Его»[84].
Все-таки одинаково владеть умом не означает: владеть одним и тем же умом; одинаково владеть телом не означает: владеть одним и тем же телом...
Для своих целей Владимир Николаевич мог бы взять более подходящий текст. Например, в сочинении «К еллинам» свт. Григорий прямо пишет, что «у одного человека ипостасей много»[85], то есть, как кажется, то самое, что и утверждает Лосский. Но внимательное чтение показывает ошибочность приписания святителю Нисскому единомыслия с Лосским или с автором «Тимея»:
«Петр, Павел, Варнава по имени «человек» суть один человек, и по этому же самому, по имени «человек» не могут быть многими, — говорит свт. Григорий и, несколько ниже, поясняет: — Ибо явно не одно и то же — вид и неделимое, не то же — сущность и ипостась»[86].
Отсюда понятно, что слова «у одного человека ипостасей много» означают: все ипостаси человеческие по природе своей относятся к одному виду, имя коего — «человек». И, следовательно, построенная Лосским на авторитете свт. Григория Нисского концепция является несостоятельной.
Однако остается неразрешенным вопрос: если, по Лосскому, быть сотворенным по образу Божию значит быть «существом личностным», «личностью, которая не должна определяться своей природой», то не получается ли, что образом Божиим в человеке надо считать оную «личность» или «личностность»? Такая мысль вполне вероятна. Да и Лосский «проговаривается» ведь, что именно личности сообразны Богу. Можно, конечно, допустить, сообразность личностей Богу по общей природе, сотворенной по образу Божию. Но что тогда могло бы означать заявление, что личность «не должна определяться своей природой, но сама может определять природу» (то есть — образ-то Божий?! — К. Ш.)
Здесь нам нужно вновь вернуться к пониманию Лосским термина «личность» и к тому, каким способом он отличает личность от «индивида».
«Мы привыкли, — говорит Лосский, — считать эти два выражения — личность и индивид — почти что синонимами; мы одинаково пользуемся и тем, и другим, чтобы выразить одно и то же. Однако в известном смысле индивид и личность имеют противоположное значение; индивид означает извечное смешение личности с элементами, принадлежащими общей природе, тогда как личность, напротив, означает то, что от природы отлично. В нашем настоящем состоянии, сами будучи индивидами, мы воспринимаем личность только через индивид. Когда мы хотим определить, «охарактеризовать» какую-нибудь личность, мы подбираем индивидуальные свойства, «черты характера», которые встречаются и у прочих индивидов и никогда не могут быть совершенно «личными», так как они принадлежат общей природе. И мы, в конце концов, понимаем: то, что является для нас самым дорогим в человеке, то, что делает его «им самим» — неопределимо, потому что в его природе нет ничего такого, что относилось бы собственно к личности, всегда единственной, несравнимой и «бесподобной». Человек, определяемый своей природой, действующий в силу своих природных свойств, в силу своего «характера» — наименее личен»[87].
В пользу того, что Лосский здесь склоняется к признанию сообразности Богу не природы, а — личности, говорит следующее. Если в природе человека Лосский не видит «ничего такого, что относилось бы к личности», то он очевидно не может считать, что природа сотворена по образу Божию. Ибо в противном случае выходило бы странное утверждение: природа, сотворенная по образу Божию, не имеет ничего такого, что относилось бы собственно к личности. И что личность есть то, что отлично от образа Божия.
Полной ясности в вопросе об отнесении Лосским слов о сообразности человека Богу к природе человеческой или к личности нам достичь вряд ли удастся[88]. Не потому ли, что, на взгляд Владимира Николаевича, «мы не знаем личности, ипостаси человеческой в истинном ее выражении»[89]? Но и в отношении к проблеме познаваемости или непознаваемости личности позиция Лосского только запутывает нас, отвлекая от ясного святоотеческого учения. То, что Лосский именует «индивидом», есть на языке свв. отцов образ (χαρακτηρ) ипостаси, те черты, которыми ипостась характеризуется, свойства ее. Именно ипостась дается нам в своих свойствах, в своих характерных чертах, позволяющих от-личить одну личность о другой. Прибегнем вновь к сочинению свт. Григория Нисского «К еллинам»:
«Петр разнится от Павла, поколику такая-то ипостась в каждом из них, потому что разнятся между собою в чем-либо, обыкновенно составляющим ипостась, а не сущность, каковы, например: неимение волос, рост, отечество, сыновство и тому подобное. <...> Слово «ипостась» прямо ведет мысль слушателя к тому, чтобы искать чела, покрытого рубцами, синего, отца, сына и подобного тому. Называю же вид, то есть сущность, чтобы познать именно живое существо словесное, смертное, обладающее умом и сведением, и живое существо бессловесное, смертное, ржущее, и тому подобное. Если же не одно и то же сущность и неделимое, то есть ипостась, то не одни и те же черты, отличающие ту и другую»[90].
Напомним читателю и уже процитированные нами слова прп. Иоанна Дамаскина из сочинения его «О свойствах двух природ во едином Христе Господе нашем, а попутно и о двух волях и действиях и одной ипостаси»:
«Ипостасное свойство — то, которое отделяет ипостась от другой ипостаси, как курносый нос, белая или темная кожа, плешь и тому подобное — ведь не всякий человек курносый, но один курносый, другой крючконосый, а третий с прямым носом, и не всякий человек плешив, но один плешив, а другой волосат, то есть густоволос».
И далее прп. Иоанн обобщает сказанное:
«И проще говоря, относительно человечества: все, что люди имеют данным от Творца, согласно святым отцам и истинному суждению, суть природные свойства, то, что от создания или от осуждения. <...> А то, что одни из ипостасей того же вида имеют, а другие нет, суть ипостасные свойства.
Итак, невозможно усмотреть ни совокупность свойств данного вида в другом виде, ни совокупности свойств данной ипостаси в другой ипостаси»[91].
Разумеется, человеческая личность, ипостась обладает всеми своими свойствами: как природными (то есть видовыми), так и личными. Ибо, конечно, плешивость не отрицает наличия разумности или смертности. Ипостась, повторим, несводима к совокупности своих свойств, но не потому, что она ей (совокупности свойств, индивиду, по терминологии Лосского) противоположна. А потому, что наша познавательная способность свойствами, чертами, характеризующими ипостась, ограничена. Истинная любовь к личности не может быть сведена, без сомнения, к любованию внешними чертами ипостаси. Но откуда бы было взяться иконописи, если бы мы с ненавистью отвергали так называемые «индивидуальные свойства», как «свойственное падшему человечеству смешение личности и природы»[92]?!
Итак, мы принуждены сделать заключение, что попытка осмысления сотворения человека по образу Божию удалась Лосскому не более, чем попытка найти «новый смысл» термина «ипостась».
Однако, возможно, кто-либо скажет, что более успешен был Владимир Николаевич в позднейшем своем сочинении «Богословие образа»? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к названному сочинению и попробуем провести его подробный анализ. Кроме того, сделать разбор статьи «Богословие образа» нам необходимо и потому, что она может содержать ценный для достижения поставленной нами цели уразумения оснований взглядов «парижских богословов» на икону материал.
С самого начала Лосский заявляет о большой важности темы образа:
«Тема образа в познании Бога и человека имеет столь существенное значение для христианской мысли, что мы считаем вполне возможным с достаточным правом, не боясь преувеличить второстепенный элемент вероучения, говорить о «богословии образа» как в Новом Завете, так и у того или иного христианского автора»[93].
Проблему «богословия образа» Лосский полагает правильным разрешить в начале в области троического богословия. И в этой области он предпочитает термин «природный образ». Автор пишет:
«Когда мы рассматриваем богословие образа в его применении к Пресвятой Троице, то во избежание какой-либо двусмысленности следует говорить о «природном образе», как делал это пр. Иоанн Дамаскин, для которого Сын есть εικων φυσικη, «совершенный, во всем подобный Отцу Образ, кроме нерожденности и отечества»[94].
Затем Лосский переходит в область христологии:
«Если коснуться темы «образа» в христологии, то «Образ Бога» усваивается ипостаси Сына: Он, став человеком, являет во взятой на Себя человеческой природе Свое Божественное, единосущное Отцу Лицо. Но познать Божество Христа (а значит, познать Христа как «совершенный Образ Бога невидимого») можно только в благодати Духа Святого»[95].
И, наконец, Владимир Николаевич обращается к пониманию термина «образ» в применении к человеку:
«Как и в троическом богословии, термин «образ» или, вернее, «по образу» применительно к человеку обретает новый смысл согласно тому же подходу, который различает в Боге Лицо, или Ипостась, и сущность, или природу: человек не только природный индивидуум, включенный в общую родовую связь человеческой природы Богом, Творцом всего космоса, но он прежде всего личность, несводимая к общим (или индивидуализированным) природным свойствам, которыми каждый человек наделен совместно с другими человеческими индивидуумами. У каждого человеческого существа ввиду особой, неповторимой связи с Богом, «по Образу Своему» его сотворившим, есть Личность. Это личное начало <...> скорее аналогия: человек, как и Бог, по образу Которого он сотворен, — личность, а не только природа, и это дает ему свободу по отношению к самому себе как индивидууму»[96].
Нужно отдать должное Лосскому: он, хотя и настаивает на своем понимании термина «образ» или «по образу», но, однако, не скрывает известной новизны если не мысли своей, то способа ее выражения:
«Хотя это новое понятие человеческой личности, или ипостаси, в святоотеческой антропологи выражено нечетко, оно, тем не менее, всегда в ней предполагается. То, что нам важно отметить сейчас, говоря о богословии образа применительно к человеческому, относится к личности человека как тому, что являет Бога»[97].
Всякая попытка найти в человеческом существе «образ Божий» (или то, что «по образу») и выделить его как «нечто» из остальной природы человека, которая «не по образу» оценивается Лосским как непреодоленный эллинизм[98]. Именно «непреодоленный, унаследованный от Оригена» эллинизм (в идее συγγενεια — родственности человека и Бога) обнаруживает Лосский у свт. Григория Нисского:
«Каждый раз, когда свт. Григорий стремится отнести «образ Божий» только к высшим способностям человека, отождествляет его с νους, он как бы хочет сделать обителью благодати человеческий разум, в силу некоего сродства его с Божественной природой...»[99].
Владимир Николаевич здесь не слишком справедлив. Никакой «родственности» в смысле эллинского неразличения твари и Творца никогда не найти в сочинениях свт. Григория Нисского. Сделанное замечание нужно Лосскому, чтобы оправдать появление «нового понятия» в собственном сочинении, в собственной системе взглядов. Но связь между представлением о сообразности Богу именно разумной души и эллинской идеей συγγενεια Лосским лишь декларируется, но никак не подтверждается. А доказательства в этом случае не были бы лишними: зараженными «непреодоленным эллинизмом» оказываются многие и многие отцы Церкви и даже, как помним, Вселенский Собор! «Болезнью» охвачена, значит, вся Церковь на протяжении всей своей истории! И только в 1958 году, с опубликованием работы Лосского, об этом стало известно?[100]
Но рассмотрим то, что было сказано Лосским о выражении «образ», или «по образу». Вопросы возникают сразу, как из области троического богословия автор переходит к христологии. Высказав мысль (совершенно правильную), что Сын есть Образ природы Отца, природный Образ, он допускает в дальнейшем рассуждении определенную нелепость. В каком смысле следует понимать слова «Если коснуться темы «образа» в христологии, то «Образ Бога» здесь усваивается Ипостаси Сына»? А в триадологии было как-то по-другому? Но здесь в размышлениях Владимира Николаевича проявляется та самая мысль, что позволяет Леониду Александровичу Успенскому говорить об одном образе во Христе.
По Лосскому, в христологии понятие «Образ Бога» усваивается Христу в том смысле, что в человеческой природе Спасителя являет Себя Ипостась Его. Однако Лосский уточняет, что «познать Божество Христа (а значит, познать Христа как «совершенный Образ Бога Невидимого») можно только благодати Духа Святого»? Но что значит это уточнение? То ли, что уточняется способ явления Ипостаси Бога Слова в человечестве, становясь в зависимость от просвещающей восприемлющих явленное очам благодати Святого Духа? Очевидно, нет. Речь Лосского клонится к тому, чтобы различить два употребления слова «образ» относительно Христа. Христос как природный Образ Отца открывается нам благодатью Святого Духа; Иисус же человек есть образ Ипостаси Сына. Остается неясным, в каком смысле здесь можно было бы сказать о Человеке Иисусе, что Он, как и все другие люди, сотворен по образу Божию. Впрочем, эта неясность очевидна только с точки зрения святоотеческого учения об образе. Лосский же, отождествив образ с ипостасью, никакой неясности «счастливо» не замечает. С его точки зрения все легко: коль скоро природа «воипостасируется» личностью, ипостасью, а Иисус не имел человеческой ипостаси, то человечество Христа являет Его Ипостась как ее образ, сообразный «Образу Бога Невидимого», или просто его являющий. Конструкция вполне логичная и стройная[101]. К сожалению, за стройность заплатить цену, пожалуй, чрезмерную — заплатить игнорированием или, по крайней мере, третированием учения отцов Церкви об ипостаси, сущности, образе как чего-то плохо сформулированного, слабо разработанного, нечеткого и при том еще никак не могущего освободиться от эллинского влияния!
На самом деле учение отцов об ипостаси и сущности, как мы видим, и об образе, как мы надеемся сейчас показать, отличается совершенной ясностью и является не «непреодоленным эллинизмом», а аутентичным уразумением и истолкованием истин, открытых Писанием.
Для правильного понимания святоотеческого учения об образе необходимо не упускать из виду, что слово «образ», употребляемое в русском переводе Священного Писания, имеет несколько значений, каждому из которых соответствует определенное слово греческого языка. Нас интересуют сейчас только три значения: образ как εικων, образ как χαρακτηρ и образ как μορφη. Септуагинта в повествовании о творении человека употребляет слово εικων (κατ εικων — «по образу») (Быт. 1, 26). Именно «образ» и «по образу» в значении εικων становится предметом особого внимания Лосского (но и «образ» в значении μορφη его интересует[102]; образ же как χαρακτηρ был осмыслен Владимиром Николаевичем недостаточно полно и отчасти превратно, в уничижительном смысле присущности его «индивидууму»). Слово εικων присутствует в текстах Священного Писания, играющих определяющую роль в нашем понимании той великой мысли о сообразности человека Богу, которая направляет весь путь жизни христианина. Приведем некоторые из них. Прежде всего обратимся к текстам, говорящем нам о Христе Боге. В 2 Кор. 4, 4 св. ап. Павел пишет о тех, для кого закрыто апостольское благовествование: «В нихже бог века сего ослепи разумы неверных, во еже не возсияти им свету благовествования славы Христовы, иже есть образ (εικων) Бога невидимаго». В послании к Колоссянам читаем то же выражение: «Сего ради и мы от негоже дне слышахом, не престаем о вас молящеся, и просяще, да исполнитеся в разуме воли Его во всякой премудрости и разуме духовнем; Яко ходити вам достойнее Богу во всяком угождении и всяком деле блазе, плодоносящее и о возрастающе в разуме Божии, Всякою силою возмогающе по державе славы Его, во всяком терпении и долготерпении с радостью, Благодаряще Бога и Отца призвавшего вас в причастие наследия святых во свете, Иже избави нас от власти темных, и престави в царство Сына любви своея, О немже имамы избавления кровию Его, и оставление грехов, Иже есть образ (εικων) Бога невидимаго, перворожден всея твари» (Кол. 1, 9-15).
В обоих текстах подчеркивается непостижимость открываемого для человека. Только Бог по молитвам может соделать нас «да исполнимся в разуме воли Его во всякой премудрости и разуме Божии». Божество Сына, «иже есть образ Бога невидимого», также не может быть постигнуто ни разумом, ни чувствами. Мы понимаем только, что, по слову свт. Иоанна Златоуста, «если Он (Бог Отец — К.Ш.) невидим, то и образ Его также невидим»[103]. Повторим, что совершенно согласны с утверждением Лосского, что Христос по божеству есть природный образ Отца. Лосский совершенно правильно отмечает, что Сын есть образ Отца в смысле отражения не ипостасных особенностей, но природного полного сходства, обусловленного единством сущности. Так именно и понимали святые отцы слова св. ап. Павла, что Сын есть «сияние славы и образ (χαρακτηρ) ипостаси Его» (Евр. 1, 3)[104]. Здесь апостол говорит, разумеется, об образе как начертании не тех свойств, что «характеризуют» Ипостась Отца в отличие от Ипостаси Сына, но о тех, что «характеризуют» общую им природу. Отсюда понятно, что святые отцы и не могли увидеть сотворенного «по образу» человека иначе, нежели понимается сам Образ, являющийся природным образом Бога. Оттого-то они согласно указывают на душу с ее природными свойствами как сотворенную по образу Божию.
Но Спаситель по неизреченной милости Своей соблаговолил принять в Свою Ипостась и природу человеческую. Не ясно ли, что, говоря о пребывании Христа по воплощении в двух природах, мы должны говорить о Нем, различая два образа: природный образ Отца и природный образ Матери? И как по Божеству Своему Он — образ (εικων) Невидимого и образ (χαρακτηρ) ипостаси Его, так по человечеству — образ (εικων) видимый и образ (χαρακτηρ) ее ипостаси, обладающий всеми природными чертами и свойствами Родившей Его. Об этом совершенно ясно говорит пр. Феодор Студит: природный образ «как сущностью, так и подобием не отличается от того, отражением коего он является; так, Христос по Божеству имеет сходство со Своим Отцом, по человечеству — со Своею Матерью» (Третье опровержение 2, 2)[105].
Теперь мы должны поставить вопрос о том, как могут быть (и могут ли) быть явлены эти два природных образа во Христе. Очевидно, что, будучи природным образом Отца и природным образом Матери, Спаситель и пребывает в двух образах. Так об этом и сказано в Послании св. ап. Павла к Филиппийцам: «Иже во образе (μορφη) Божий сын, не восхищением нищенства бытии равным Богу; Но Себе умалил, зрак (μορφη) раба приим, в подобии человечестем быв, и образом (σχημα) обретеся якоже человек» (Филипп. 2, 6-7). Следовательно, следует утверждать, что, будучи природным образом Отца и природным образом Матери, Христос имеет и образ (μορφη) Божественный и образ (μορφη) человеческий, каждый из которых есть образ (εικων) соответствующей природы[106] и потому носящий как природные свойства соответственной природы, так и личные, ипостасные свойства, черты образа (χαρακτηρ), данные соответственно той и иной природе. Икона Христа, соответственно, изображает черты образа (χαρακτηρ) Его Ипостаси по человеческой природе[107].
Возвращаясь к сказанному Лосским, мы видим, что его «конструкция» должна быть подвергнута, чтобы быть приведенной в соответствие со святоотеческим учением, серьезным изменениям и существенно дополнена. Ограничиться, как это делает Владимир Николаевич, словами об «образе Бога», «являющем во взятой на Себя человеческой природе Свое Божественное, единосущное Отцу Лицо» мы не можем. Леонид Александрович Успенский имел все основания, опираясь на эти слова, сделать заявление об одном образе во Христе. Ведь термин «ипостасирование». Лосский понимает не как присоединение человеческой природы, а как ее «определение», почти «оформление», «образование», то есть придание ей μορφη (образа, формы)[108]. И Лосским совершенно упускается из виду, что образ (μορφη) Иисуса человека есть образ (εικον) природный Его Матери. Поэтому мысль об одном образе вполне в конструкции Лосского допустима. Образ человека Иисуса может мыслиться в этом случае как образ (μορφη) Бога не вследствие ипостасного соединения человеческой природы с природой Божественной, но как являющий Ипостась Бога Слова вследствие некоего, так сказать, «об-ипостасирования», некоего «об-личнивания» человеческой природы, придания ей формы, образа (μορφη) как образа (εικον) Ипостаси безотносительно к смыслу понятия «ипостасное соединение». Конечно, можно сказать и так, как сказал Лосский то есть что Бог «являет во взятой на Себя природе» Свое Лицо, Свою Ипостась. Но только при учитывании «не подходящего» Лосскому понимания Христа как сложной ипостаси, сущей в двух природах, соединенных ипостасным соединением. Тогда будет ясно, что Божественное, единосущное Отцу Лицо Сына явлено не просто в человеческой природе, но в человеческом образе (μορφη), являющем Лицо, единосущное и Его Матери. Человек Иисус — образ (μορφη) Бога, ибо есть образ Ипостаси, но это человеческий образ Бога. Этот образ явлен был воплотившимся Богом. Справедливое замечание Лосского, что «познать Христа как «совершенный Образ Бога Невидимого» можно только в благодати Духа Святого» должно быть уточнено указанием на явленность человеческого образа Ипостаси Слова и непознаваемость Божественного образа. Во Христе два образа, один из которых явлен как образ человеческий и видим, описуем и познаваем как всякий человеческий образ. Другой же — невидим, неописуем и непознаваем. Св. Дух, как образ Сына, открывает нам Божество Его, но не образ Ипостаси (μορφη). Личные, ипостасные свойства Лиц Троицы для нас совершенно недоступны (за исключением того, что Ипостась Сына доступна для нас по Своему человечеству, то есть Своими личными человеческими чертами). В Послании св. патр. Александра Александрийского толкуются слова Спасителя: Аз и Отец едино есма (Иоанн, 10, 30):
«Сими словами Господь выражает не то, что Он есть Отец, и не то, что два естества, различные ипостасно, составляют одно, но то, что Сын Отчий точно и совершенно удерживает и сохраняет единство с Отцом, имеет в Себе отпечатленное самым естеством подобие Его, ни в чем от Него неотличное, есть совершенный Образ Отца, самое выразительнейшее, отображение (χαρακτηρ) Первообраза. Господь наш ясно выразил это Филиппу, когда тот высказал свое желание видеть Отца Его. Филипп говорил: покажи нам Отца. Господь отвечал ему на это: видевый Мене, виде Отца (Иоанн, 14, 9); ибо Отец созерцается в Сыне, как в чистейшем и одушевленном зерцале, в божественном образе Своем»[109].
Несколько ниже св. парт. Александр подчеркивает непостижимость и недоступность ипостасных свойств Отца, как и Сына, чтобы мы могли яснее понять, что постижимы только природные свойства:
«Ипостась Его (Сына — К. Ш.) непостижима для всякого сотворенного естества, так же как непостижим и Сам Отец; и это потому, что образ рождения Богом Отцем Сына Божия превышает понятие всякой разумной твари. Впрочем, люди, в которых живет Дух истины, не станут требовать, чтобы я учил их сему. Им давно известны следующие слова, сказанные Иисусом Христом: никтоже знает Сына, токмо Отец, ни Отца кто знает, токмо Сын (Матф. 11, 27). Мы от отцев наших научались также веровать, что Сын Божий, как и Отец, непреложен и неизменяем, ни в чем не имеет недостатка и есть Сын совершенный, во всем подобный Отцу, только одною нерожденностью отличающемуся от Него. Он есть самый точный и ни в чем не отличный Образ Отца, ибо Он вполне имеет в себе все то, в чем состоит совершенное подобие Отцу»[110].
Так же учит и свт. Василий Великий, разъясняя понимание слов о Сыне как образе Отца и слов «видевый Мене...»:
«Евангелие учит, что Сего Отец знамена Бог (Иоанн 6, 27); и Апостол говорит: Иже есть образ Бога невидимаго (Кол. 1, 15), образ не бездушный, не рукотворенный, не дело художества и примышления, но образ живый, лучше же сказать, самосущая жизнь, образ не в подобии очертания, но в самой сущности всегда сохраняющий неразличимость. Ибо утверждаю, что и выражение: быть в образе Божии (Фил. 2, 6), равносильно выражению: быть в сущности Божией. Ибо, как слова: принял зрак раба (Фил., 2, 7), означают, что Господь наш родился в сущности естества человеческого: так, конечно, и слова: быть в образе Божии, показывают свойство Божией сущности. Господь говорит: видевый Мене виде Отца (Иоанн 14, 9)»[111].
Очень ясно о Сыне как природном образе Отца и Св. Духе как природном образе Сына говорит прп. Иоанн Дамаскин:
«Сын — естественный образ Отца, совершенно равный, во всех отношениях подобный Отцу, кроме того, что не рожден и не Отец. Ибо Отец — нерожденный Родитель; Сын же — рожден и не Отец; и Дух Святой — образ Сына. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым (1 Кор. 12, 3). И так через Святого Духа мы узнаем Христа, Сына Божия и Бога, и в Сыне созерцаем Отца. Ибо слово по природе — вестник ума; дух же — обнаружитель слова. Подобный же и совершенно равный образ Сына — Святой Дух, в одном только отношении имея различие [с Ним]: в том, что Он исходит. Ибо Сын хотя рожден, но не исходит»[112].
Из приведенных текстов понятно, помимо прочего, и то, что такое в святоотеческом понимании боговидение как созерцание нетварного света. Нетварный свет, нетварные энергии, (благодать, иными словами), есть образ божественной природы, сущности, подаваемый Святым Духом. Мы не можем постичь ипостасных свойств Лиц Св. Троицы, но мы можем (точнее — можем надеяться) сподобиться созерцания свойств божественной природы. Об этом так говорит прп. Симеон Новый Богослов:
«Когда же приходим мы в совершенную добродетель, тогда не приходит уже Он более, как прежде без?бразным и безвидным, и не делает присещения и прихода света своего в нас без шума, но приходит в некоем образе, впрочем, в образе Бога; ибо Бог не является в каком-либо очертании или отпечатлении, но является как простой, образуемый светом без?бразным, непостижимым и неизреченным»[113].
Отсюда, обратившись к проблеме изобразимости образа Божия на иконе, мы можем заключить, что божество Христа (и обоженное состояние святых), то есть божественный образ Божий, на иконе может быть изображен только при помощи иконографических символов (мы здесь говорим, разумеется, не о «символической манере изображения», так как иконографическая символика присутствует на иконах, выполненных в самых разных стилях и манерах) — символов явления божественной природы — энергий Божиих, ибо этот «образ Бога» безо́бразен, бесформен и бестелесен. Потому для указания на присутствие Божества используются символы — «изображения неизобразимого и формы бесформенного» (прп. Максим Исповедник[114]). Изобразим же в собственном смысле этого слова только человеческий образ Христа.
Сделанные уточнения и дополнения вплотную подводят нас к той неясности, о коей мы уже говорили. Если не верно утверждать во Христе один образ, то нельзя ли надеяться увидеть в одном — человеческом — образе другой — Божественный? Ведь и святые отцы учили, что икона изображает ипостась, а Ипостась Христа есть Ипостась Бога. То есть спрашивается о возможности как-то помыслить со-образность двух образов одной Ипостаси. Но против этой возможности приходится возразить по сути то же, что и против одного образа. Когда намереваются установить связь, сходство, со-образность между двумя образами одной Ипостаси Бога Слова, то, забывая святоотеческое понимание термина «ипостась», следуют за пониманием Лосского.
Чтобы нам как можно точнее разобраться в этом вопросе, обратимся к некоторым текстам периода борьбы с иконоборческой ересью. На VII Вселенском Соборе был, кроме прочих, приведен и такой довод иконоборцев:
«Кто старается написать на иконе нераздельное и ипостасное соединение естества Бога Слова и плоти, то есть, то единое неслиянное и нераздельное, что образовалось из обоих, и называет это изображение Христом, между тем как Христос означает вместе и Бога и человека, — анафема; потому что чрез это он измышляет какое-то странное слияние двух естеств»[115].
Что же иконопочитатели? Потому ли, что от них были сокрыты «невыраженные основания» открытого Лосским «нового смысла» понятия «ипостась», или, вернее сказать, потому, что такового не содержалось в учении Церкви никогда, ни в открытом, ни в сокрытом виде, иконопочитатели не стали апеллировать к пониманию ипостаси как «несводимости», определяющей свою природу. Они возразили иначе, пользуясь «неподходящим» словосочетанием «ипостасное соединение»:
«Гнусная ложь нередко присоединяется к правой речи. Так и они ложно и несправедливо отвергают приготовление икон, как будто бы оно противоречит нераздельному и неслиянному и ипостасному соединению двух естеств во Христе и как будто чрез это вводится слияние естеств. Впрочем, они не связали истины Божией. «Христос» есть имя, обозначающее два естества, одно видимое, а другое невидимое. Но чрез эту завесу, то есть чрез плоть, люди зрели Самого Христа. Хотя при этом божественное естество Его и было сокрыто, но Он обнаруживал Его посредством знамений Своих. Итак, святая Церковь Божия как приняла от святых апостолов и отцов, так и представляет людям тот же самый видимый образ, но не разделяет Христа, как они, суесловя, клевещут на нас. Икона, конечно, только по имени имеет общение с первообразом, а не по самой сущности, как мы часто говорили; потому что она не имеет и души, которую невозможно описать, так как душа тоже невидима. Если невозможно живописно изобразить и душу, хотя она и создана, то ни тем ли более никто, даже человек, вовсе лишившийся ума, не подумает изображать чувственным образом непостижимое и неисследимое Божество Единородного»?[116]
Ответ отцов Собора заключается далеко не только в том, что Божественная природа неизобразима. Это ясно было и иконоборцам. Но ответ состоит и не в том, чтобы просто сказать, что мы на иконах изображаем ипостась Его. Отцы Собора объясняют, как это оказывается возможным. Мы изображаем ипостась, потому что оба образа Бога соединены ипостасно. Потому мы, изображая «рабий зрак», изображаем Лицо Бога. На возражение иконоборцев, будто изображение изобразимого и видимого образа отделяет его от невидимого и неизобразимого, а они во Христе нераздельны, иконопочитатели утверждают, что разделения нераздельного не происходит. Ни содержание, ни изображение видимого и изобразимого не отменяет того, что «чрез плоть люди зрели Самого Христа», хотя Божество Его и было «сокрыто» и «обнаруживалось посредством знамений» только. Это возможно, ибо Христос есть сложная ипостась, подобно тому как это происходит с человеком, тоже являющимся сложной ипостасью. Ни созерцание, ни изображение тела человеческого не обездушивает самого человека, но ни душа не становится видимой, ни тело — образом души. Также и плоть Христова, соединенная ипостасно с Богом, не отделяется от Него при ее созерцании и изображении. Но и не показывает, не обнаруживает, не открывает, не являет ни как образ божества, ни некоей своей сообразностью с божественным Образом. Но — «сокрывает», но — «служит завесой» (ср.: Евр. 10:20).
Не верно думать, что воплощение, вочеловечевание Бога Слова есть соединение Его с без-образной и бес-форменной «человеческой природой», которую ипостась Сына «воипостасирует», как бы придавая ей образ и форму. Святитель Кирилл Александрийский говорит, что Бог стал человеком «облекшись в образ наш», что Он «соблаговолил подвергнуться рождению от жены и явиться в образе нашем: это и значит «вочеловечиться»[117]. Вочеловечивание означает воипостасирование в смысле именно столь «неподходящего» Лосскому ипостасного соединения с человеческой природой, имеющей образ и форму и вид, с человеком, не являющимся ипостасью не из-за отсутствия в нем «несводимости», а из-за того, что этот человек не имеет и никогда не имел отдельного от Бога существования, и от самого своего возникновения есть составляющая часть сложной ипостаси Логоса. Как человеческое тело не есть ипостась не потому, что без души оно не имеет ни вида, ни образа, а потому, что соединено с нею неслиянно и нераздельно (смерть человека и называется собственно смертью человека, а не одного тела потому, что происходит разъединение ипостаси человека, ипостасного единства души и тела)[118], так и человек Иисус не является ипостасью человеческой, ибо с самого первого мига своего существования есть часть сложной ипостаси Бога Слова, соединенный с Богом «нераздельно и неслиянно ипостасно», а не потому, что Бог придает человечеству своему образ и форму. Ни о какой со-образности (и тем более, об одном образе) человеческого и божественного образов во Христе говорить не следует. Но, например, у свт. Григория Нисского в сочинении «Об устроении человека» есть одно место, которое, как кажется, можно интерпретировать в духе сообразности.
«Поелику прекраснейшее и превосходнейшее из всех благо есть само Божество, к Которому устремлено все, вожделевающее прекрасного; то утверждаем посему, что и ум, как созданный по образу Наилучшего, пока, сколько можно ему, причастен подобия Первообразу, и сам пребывает в лепоте; если же сколько-нибудь уклонится от сего подобия, лишается красоты, в которой пребывал. А как, по сказанному нами, ум украшается подобием первообразной красоте, подобно какому-то зеркалу, которое делается изображающим черты видимого в нем; то, сообразно с сим, заключаем, что и управляемое умом естество держится его, и само украшается предстоящей красотой, делаясь как бы зеркалом зеркала; а им охраняется и поддерживается вещественное в том составе, естество которого рассматривается. Посему, пока одно другого держится, во всем соразмерно происходит общение истинной красоты, посредством высшего украшается непосредственно за тем следующее»[119].
Однако данное рассуждение святителя уместно пояснить его же словами, дающими возможность правильного понимания того, что значит для «вещественного в составе человека» стать «зеркалом зеркала»:
«Кто видит себя, тот в себе видит и вожделеваемое; и таким образом чистый сердцем делается блажен, потому что, смотря на собственную чистоту, в этом образе усматривает первообраз. Ибо как те, которые видят солнце в зеркале, хотя не устремляют взора на самое небо, однако же усматривают солнце в сиянии зеркала не меньше тех, которые смотрят и на самый круг солнца; так и вы, говорит Господь, хотя не имеете сил усмотреть света, но, если возвратитесь к той благодати образа, какая сообщена была вам в начале, то в себе имеете искомое. Ибо чистота, бесстрастие, отчуждение от всякого зла есть Божество. Посему, ежели есть в тебе это, то, без сомнения, в тебе Бог, когда помысл твой чист от всякого порока, свободен от страстей и далек от всякого осквернения, ты блажен по своей острозрительности; потому что, очистившись, усмотрел незримое для неочистившихся, и отъяв вещественную мглу от душевных очей, в чистом небе сердца ясно видишь блаженное зрелище. Что же именно? Чистоту, святость, простоту и все подобные светоносные отблески Божия естества, в которых видим Бог»[120].
Только в этом смысле и следует говорить о со-образности образов во Христе.
Св. патр. Софроний Иерусалимский, чье Послание стало одним из основоположений VI Вселенского Собора, пишет, что «в одном и том же Христе находятся два образа, естественным образом совершающие то, что им свойственно»[121]. И вместе с этим, св. патриарх утверждает, что Слово приняло образ человеческий, а не придало образ человеческий природе: «воплощается бесплотный, и принимает наш образ, будучи по божественному существу, что касается образа и вида, не имеющим образа, и подобно нам воплощается бесплотный, и делается истинным человеком Тот, Кто познается как вечный Бог»[122]. «Все это (что входит в состав человеческой природы в Иисусе Христе) приведено было в бытие одновременно с зачатием Слова, — говорит свт. Софроний, — и соединилось Ему в ипостась одновременно с тем, как приведено было в бытие, — бытие истинное, а не частичное, не допускающее деления...»[123].
О двух образах во Христе и попытках искать между ними сходство и сообразность прекрасно сказал свт. Кирилл Александрийский, объясняя свою позицию в полемике с блж. Феодоритом Кирским. Эта полемика интересна нам еще и тем, что демонстрирует использование свв. Отцами слов «образ» (μορφη) и «естество» как синонимов (что потом мы видим общепринятым словоупотреблением в Деяниях VI Вселенского Собора). И это не может быть случайно, а является свидетельством мысли, что не бывает без-образного естества, что такое оно есть лишь как общее понятие.
Блаженный Феодорит пишет:
«Если Божество непревращаемо и неизменяемо, то не способно к превращению и изменению. Если же невозможно превратить непревратимое, то и Бог Слово не соделалось плотью так, как бы превратилось, но приняло плоть и вселилось в нас по Евангельскому слову (Иоан. 1, 14). И богодухновенный Павел ясно говорит об этом в Послании к Филипписеянам так: сие да мудрствуется в вас, иже и во Христе Иисусе: иже во образе (μορφη) Боожи сый, не восхищением непщева бытии равен Богу; по Себе умалил, зрак (μορφη) раба приим (Филипп. 2, 5-7). Итак, ясно из сказанного, что образ Бога не превратился в образ раба, но, оставаясь тем, чем был, принял образ раба <...>. Итак, младенец назывался Еммануилом по той причине, что воспринят Богом; и Дева — Богородицею по причине соединения образа Божия с зачатым образом раба; потому что Бог Слово не превратился в плоть, но образ Бога принял образ раба»[124].
В спорах с блж. Феодоритом свт. Кирилл не принимал очень многого в писаниях оппонента. Но в данном вопросе он показывает свое полное единомыслие с высказанным тем пониманием соотношения двух образов во Христе, лишь подчеркивая, что ему несправедливо приписано отрицание того, что и он считает истинным:
«Итак, пусть выслушает он, не умеющий опровергать того, с чем не хочет соглашаться: ты говоришь слишком пространной речью и опровергаешь то, что нам самим ненавистно. Мы знаем, что божественное и превысшее естество не допускает и тени превращения; но Слово Божие приняло естество плоти, не переставая быть тем, чем Оно есть. А как он сказал, что образ божества принял образ раба, то в учении своем уже не должен касаться того, сходствуют ли между собой эти образы сами по себе, независимо от своего существа. Я думаю, он тут же опровергает сам себя. Не нужно сходства, без труда отыскиваемого, и соединения образов, сообразных между собою, чтоб верить в действительность воплощения, а нужно соединение сущностей»[125].
А далее свт. Кирилл поясняет свое понимание соединения образов:
«Таким образом, когда говорим, что Слово стало плотью, то разумеем, что тут произошло не слияние, не смешение, не превращение, не заменение, но неизреченное и неописуемое соединение Его с плотью, имеющей разумную душу. Что до слова «соединение», то оно не означает тотчас смешение, а преимущественно значит восприятие другого»[126].
Теперь мы должны повторить вопрос, который поставили, сказав о неясности, возникающей в конструкции Лосского, неясности, связанной с проблемой уразумения образа Божия во Христе как человеке. Что человеческий образ (μορφη) Христа не сообразен божественному Его образу (μορφη) мы уже, надеемся, показали на основании текстов святых отцов[127]. Но если мы говорили, что Спаситель есть Бог и человек вместе, то следует спросить: «Что же в этом ипостасно соединенном с Богом Человеке — «по образу» (κατ εικωνα) Божию?"
Ответ, кажется, легко предположить — душа. Если Христос — совершенный человек, во всем подобный нам (кроме греха), то вполне обоснованно было бы думать, что то, что в Нем «по образу» соответствует тому же, что и во всех людях. А мы видели, что по образу Божию свв. Отцы считают сотворенной разумную душу. Христос — Бог есть образ божественной природы, есть природный образ Отца. Таким же образом, то есть образом Божественной природы является и сотворенный по Христу — Первообразу человек, соединенный ипостасно с Богом Словом.
«Человек есть и называется человеком главным образом по причине своей мыслящей и разумной души, в соответствии с которой и благодаря которой он есть образ и подобие Бога, Творца всего», — говорит прп. Максим Исповедник[128].
Возражая монофелитам, прп. Максим опровергает идею об одной воле во Христе на основании различия двух природ — двух образов, подчеркивая, что об образе Божием во Христе человеке следует говорить в том же самом смысле, что и о любом другом человеке:
«Великий Моисей в сотворении человека представляет Бога говорящим: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию» (Быт. 2, 29). Итак, если человек есть образ Божественной природы, а Божественная природа самовластна, то, стало быть, и образ, если тот сохраняет подобие первообразу, по природе является самовластным. А если так, а Первообраз по природе стал и образом по природе, то, значит, Он же способен желать согласно обеим своим природам»[129].
Христос Бог есть образ Божественной природы Отца, а для человека Он является Первообразом (αρχετυπον) потому, что человеческая душа также является образом Божественной природы, но не единосущным природе Отца, а сотворенным. И то же самое мы должны сказать о человечестве Спасителя, ибо «Первообраз по природе стал образом по природе», то есть человеком, наделенным душой «в соответствии с которой и благодаря которой он есть образ и подобие Бога, Творца всего».
Итак, проведенное нами исследование позволяет заключить, что учение Владимира Николаевича Лосского об ипостаси и образе в применении к христологии и антропологии не может быть признано соответствующим учению Церкви. Главной причиной этого, на наш взгляд, является неадекватная в данном случае предмету методология Лосского, основной принцип которой можно охарактеризовать как отказ от прямого следования смыслу святоотеческих текстов и настолько вольная их интерпретация, что она уже не дает возможности для правильного понимания учения отцов Церкви по разбираемым вопросам.
3. В. Н. Лосский и Л. П. Карсавин
Не найдя в разбираемом нами учении Лосского соответствия учению святоотеческому, мы вправе предположить, что, возможно, Владимир Николаевич испытывал какие-либо влияния на свою мысль, заставившие его изменить в данном конкретном случае своему обычному (и вообще обычному в Православии) подходу к богословским проблемам — искать не решения этих проблем, а того, как они решены свв. отцами. И действительно, таковое влияние без труда может быть обнаружено. Мы говорим о русском богослове и религиозном философе, одном из ярчайших представителей «метафизики всеединства» Льве Платоновиче Карсавине. С идеями Карсавина Лосский имел возможность познакомиться в бытность свою студентом историко-филологического факультета Петроградского университета[130]. Разумеется, знакомство с идеями не означает непременно зависимость от них. Но, кажется, в том, как Лосский ставит и разрешает проблему «богословского понятия человеческой ипостаси» речь следует вести именно о зависимости от идей учителя.
Напомним, что свое новое понимание («новый смысл») личности Лосский ищет и находит в процессе рефлексии над понятием личности, ипостаси в области троического богословия в применении его к христологии и антропологи. Лосский пишет:
«Ипостась есть то, что есть усия, к ней приложимы все свойства — или же все отрицания — какие только могут быть сформулированы по отношению к «сверхсущности», и, однако, она остается к усии несводимой. Эту несводимость нельзя ни уловить, ни выразить вне отношения трех Ипостасей, которые, собственно говоря, не три, но «триединство»[131].
Далее он обращается к понятию ипостаси в контексте христологии:
«Человечество Христа, по которому Он стал «единосущным нам», никогда не имело никакой другой ипостаси, кроме Ипостаси Сына Божия; однако никто не станет отрицать, что Его человеческая природа была «индивидуальной субстанцией», и Халкидонский догмат настаивает на том, что Христос «совершенен в своем человечестве», «истинный человек» — из разумной души и тела (εκψυχης λογικες και σωματος)»[132].
Исходя из сказанного и подчеркнув, что Иисус — человек никогда не имел человеческой личности, Лосский приходит к выводу, что
«этот отказ от признания во Христе двух личностных и различных существ будет означать, что в человеческих существах мы также должны различать личность, или ипостась, и природу, или индивидуальную субстанцию»[133].
Задолго до того, как В. Н. Лосский опубликовал этот вывод, его учитель шел к своему выводу весьма сходным путем:
«Ипостась — суть индивидуального бытия и само индивидуальное существо, существованием или бытийностью своею связанное с другими ипостасями в одно и единое бытие, в одну и ту же усию. Ипостась — необходимый образ существования (tropos hyparxeos) усии, так что нет неипостасной (anhipostos) усии, хотя может быть усия в чужой ипостаси (enhipostasis). Ибо в существующем (усии) есть суть (ипостась), а суть непременно существует. Ипостась — истинная личность. Но она — Божья Личность. И если мы спокойно называем Божьи Ипостаси Божьими Личностями и даже Лицами, нам не по себе, когда начинают называть ипостасью человеческую или тварную личность. С этим, несомненно, связано то, что в Богочеловеке два естества или две усии (а потому — две воли и две энергии), но только одна личность — Ипостась Логоса, которая, конечно, не является чем-то третьим между Богом и человеком, но есть сам Бог.
Значит, в человечестве Своем Христос личен лишь потому, что человечество Его находится в Божьей Ипостаси (enhipostasis), причаствует Божьей Ипостаси (methexis), обладает Божьей Ипостасью, Богом, как самим собою. Но, так как Богочеловек есть совершенный человек, невозможно допустить, чтобы в Нем не было чего-нибудь присущего человеку, а в каком-либо человеке было сверх присущего Ему»[134].
Сходство, как видим, весьма и весьма велико. По существу, текст Лосского воспроизводит весь ход рассуждения Л. П. Карсавина. Именно последуя Карсавину, Лосский избирает метод подхода к понятию человеческой личности, диаметрально противоположный святоотеческому. Карсавин исходит в своем рассуждении из учения о единосущии Троицы при различии Лиц. Если, как это делает и Лосский, полученное представление о Божественной Ипостаси применить для понимания того, чт? есть человеческая ипостась, то результатом будет требование непременно различать «личность» и «индивидуум». Коль скоро «индивидуум» есть отдельная природа, то, исходя из догмата о единосущии Лиц Троицы, термины «ипостась» («личность») и «индивидуум» не могут обозначать одно и то же понятие. Далее, предваряя мысль Лосского, Карсавин ищет и «находит» разрешение вопроса о человеческой личности в Халкидонском догмате, то есть в том, что, как ему кажется, догмат говорит о человеческой личности Иисуса: Иисус-Человек не имеет человеческой личности. К тому же самому приходит и Лосский. Но вывод, который делает Лев Платонович, оказывается (во всяком случае, на первый взгляд) совершенно иным:
«Следовательно, строго говоря, нет и не может быть человеческой или тварной личности»[135].
Думается, что вывод учителя отличается гораздо большей строгостью и последовательностью, нежели вывод его ученика. В самом деле, логичней предположить, что «так как Богочеловек есть совершенный человек», и у этого совершенного человека нет человеческой личности, то, поскольку «невозможно допустить, чтобы в Нем не было чего-нибудь присущего человеку, а в каком-либо человеке было сверх присущего Ему», то и, строго говоря, нет и не может быть человеческой или тварной личности»[136]. Владимир Николаевич старается, конечно, некоторым образом преодолеть создающееся впечатление, что в его конструкции Христос-человек оказывается все-таки не вполне человеком, так как не имеет того, что имеют все остальные люди — человеческой личности. Лосский находит выход в определении личности как «несводимости человека к природе» и заявляет:
Именно несводимость, а не «нечто несводимое» или «нечто такое, что заставляет человека быть к своей природе несводимым», потому что не может быть здесь речи о чем-то отличном, об «иной природе», но только о ком-то, кто отличен от собственной своей природы, о ком-то, кто, содержа в себе свою природу, природу превосходит, кто этим превосходством дает существование ей как природе человеческой и тем не менее не существует сам по себе, вне своей природы, которую он «воипостасирует» и над которой непрестанно восходит...»[137].
Но подобный выход есть скорее эмоциональное разрешение проблемы, когда автор не видит, что уходит от нее, заменяя ясное решение «плетением словес». На возможный простой вопрос: есть ли в обычном человеке нечто, чего бы не было в человеке Иисусе — Лосский отвечает запретом считать то, чего в Иисусе явно нет (человеческой личности), чем-то, а только — кем-то. Таким способом можно удержаться от логически неизбежного, на самом деле, вывода, сделанного Карсавиным. Но только ценой потери ясности, затеняемой игрой слов.
В святоотеческом учении подобные усилия совсем не нужны, ибо, как мы помним, согласно свв. отцам личность, ипостась вообще не есть то, что можно «иметь», а только то, чем можно быть — быть самостоятельным, самовластным, отдельным и потому несводимым к другим существом. Сообразно с этим и вопрос, которого избегает (или — преобразует?) Владимир Николаевич, имеет простое и ясное разрешение. Было ли нечто, чего не имел человек Иисус, в отличие от других людей? Конечно. Он не имел самостоятельного, отдельного от Божества существования. И здесь нет никакой нужды пояснять, что, дескать, существование не есть «нечто» и т.п. Поскольку, как известно, существование (ипостасное или воипостасное — не имеет значения) не есть определение ипостаси, то и проблема имения-неимения в контексте святоотеческого понимания ипостаси поставлена быть не может, так как сказать о чем-то (или о ком-то), что оно имеет или не имеет существование не значит определять существующее или его состав.
Вместе с тем, не стоит видеть в этой, достаточно неловкой, попытке избежать столь радикального, каков дан Карсавиным, вывода из принятой Лосским интерпретации термина «ипостась», — попытку преодоления влияния учителя и выбор иной, нежели у Карсавина, позиции в понимании как термина «ипостась», так и всей связанной с данной позицией проблематики. Кроме того, и сам Лев Платонович не был последовательным в отношении вывода о неимении личности человеком, предложив другое, более сложное решение. И с этим решением учение Лосского находится в почти абсолютном согласии. Сравним.
Л. П. Карсавин выстраивает примерно следующую конструкцию[138]. Прежде всего он противополагает понятия личности и индивидуальности. Индивидуальность и есть, по Карсавину, тварный человек, которому, чтобы стать личностью, надо соединиться с Ипостасью Логоса. Заявив, что тварь безлична и безипостасна, Карсавин продолжает:
«Этим, конечно, не отрицается индивидуальность; напротив — благодаря этому только индивидуальное бытие, как таковое, и получает божественное оправдание смысл. Оно не что иное как причастие твари Божественной ипостаси или Личности чрез Иисуса Христа. И как не становится Ипостась Логоса ограниченною от того, что есть две других Ипостаси, так и сама Ипостась Логоса может быть и Ипостасью индивидуального человека Иисуса и Ипостасью Всеединого Христа, тело Коего — все спасенные Им человеки, и — по причастию — ипостасью каждого единичного человека. В применении к твари мы говорим о ее личности или ипостаси в смысле переносном, и говорим только ради простого изложения: точнее будет говорить о тварном причастии к Божественной Ипостаси или личности.
Если во Христе и чрез Христа все множество спасаемых Им человеков становится Его телом и, причаствуя Его Божественной Ипостаси, делается ипостасным и личным, это множество или Церковь есть единая ипостась или личность (по своему Богопричастию). Но если Христос, делающий личным все человечество, есть вместе с тем и один из человеков Иисус, если он не сливает всех людей в безличии единой Личности, но всякого человека делает индивидуально-личным, подобным и Ему самому, — единая личность Церкви должна быть и всем множеством составляющих ее индивидуальных личностей. И потому мы называем Церковь всеединою личностью по причастию ее всеединой Ипостаси Логоса»[139].
Каким же, однако, способом безличный индивидуум обретает личность, несводимую и от-личную от других личностей и не сливается с ними в «безличии единой Личности»? Карсавин, не скупясь на декларации, не отвечает на этот вопрос, предпочитая твердить на разные лады, что «таким образом мир является для Церкви не только и не просто материею, которая должна и стремится стать Церковью как Телом Христовым, но еще и тем, что в становлении своем этим Телом должно «причаствовать личному бытию и сделаться личным по благодати»[140]. Каким образом безличное стремится стать чем-либо и, тем более, является чем-то, что может «сделаться личным по благодати» при этом одновременно и не сливаясь, не растворяясь в Личности Логоса, и не дробя Ее, Карсавин не объясняет. Нам остается лишь верить или не верить, но от понимания придется отказаться. Потому что, заявив человека безличным «субстратом, вполне самодвижным»[141], нельзя без противоречия сделанному заявлению утвердить возможность обретения личности, отличной от других, с ними не сливающейся, без отвержения сделанного ранее заявления. Карсавин же делает оба заявления зараз, не обращая внимания на противоречия[142].
Не спасает дела и представление Карсавина о лике человека, как «образе Божием» в человеке. Лев Платонович различает в человеке «личину» и «лик», отождествляя, по— видимому, первую с «индивидуумом», а «лик» — с некоей потенцией, делающей «безличный субстрат» способным к «лицетворению» посредством обожения. В своих «Пролегоменах...» Карсавин говорит:
«Так в Боге мы находим единство, высшее, чем индивидуальная личность, ибо Бог — три-ипостасен, и единство личное, ибо ипостаси не вне Божией усии и ей не противостоят, а Бог — личный Бог. Этим окончательно устраняется, как заблуждение, признание индивидуальной личности за единственное конкретно-личное бытие, т.е. отрицается всякий индивидуализм, взамен чего утверждается реальность симфонически-личного бытия, а тем самым — и «строение» самой индивидуальной личности как многоединства.
Человеческая личность по существу своему есть причаствуемая непостижимым тварным субстратом Божья Ипостась, или обладаемое человеком имя Божие. И самый смысл человеческого и тварного бытия, раскрывается как его «лицетворение» или «обожение» (theosis).
Естественно, что наибольшего обожения или личного бытия человек достигает в своем совершенстве. Потому-то именно лик человека наиболее близок Богу, а личина наиболее от Бога удалена. Лик человека и есть «образ Божий» в человеке. Но этим нимало не отрицается усовершающаяся личность, которой лик предносится как ее цель, ее идеал и ее ангел-хранитель. Ибо лика нет без личности; и нет необходимости мыслить совершенство как простое отрицание несовершенства, а можно мыслить его и как продолжение и восполнение несовершенства»[143].
По всей видимости, под «личностью» в последнем абзаце понимать следует не «личность» в смысле предыдущего абзаца, а, скорее, как «индивидуальную личность», «индивидуум». Тогда становится понятней мысль Карсавина: индивидуум, имеющий в себе лик — образ Божий, как некий идеал, цель свою, лицетворится посредством обожения и благодатно включается как личность (без обезличивающего слияния с другими личностями) во всеединство Ипостаси Логоса. Кроме того, по мысли Карсавина, «если под телом и телесностью мы разумеем соотносительную единству множественность этого единства (то есть всеединой Личности — К.Ш.), и при том множественность не такую, как наша, то есть не несовершенную, а доведенную до своего конца и не только сущую, а и преодоленную — всеединая Личность Логоса, несомненно, духовно-телесна»[144]. Благодаря этому воплощенный Логос становится «Телом Божиим»[145], и потому-то Церковь Лев Платонович считает «всеединой личностью по причастию ее всеединой Ипостаси Логоса», то есть обожженной тварью, соединяющей в себе «лицетворимых» индивидуумов, — телом Христовым.
Карсавин понимает, конечно, некоторую необычность, так сказать, сказанного им в сравнении со святоотеческим учением. Но он полагает, что на это можно пойти, ибо «необычный, и с точки зрения традиционной богословской терминологии, дерзкий вывод очень плодотворен по своим следствиям»[146].
Думаем, что не менее благими мотивами руководствовался и Лосский, создавая свою версию карсавинского учения. Продолжим сравнивание, обратившись теперь ко взглядам Владимира Николаевича.
Как мы уже видели, Лосский, подобно Карсавину, противопоставляет понятия «личность», «ипостась» понятию «индивидуум». Личностью у Лосского оказывается «несводимость» ее к природе; а индивидуум есть последствие грехопадения, затемнение личности, определение ее природными чертами, «характером». Это, учитывая, что личность мыслится Лосским как образ Божий, весьма напоминает противопоставление Карсавиным «лика» — «личине». «Личность» Лосского, как и «лик» Карсавина есть то, что, скрываемое «индивидуумом», «характером», «личиной» способно к причаствованию благодати обожения, и соединению в некое «всеединство» с другими. Есть, возможно, некоторое различие у этих мыслителей в понимании и определении того, что такое — «всеединство» личностей. Карсавин говорит о «всеединой Личности»; Лосский, скорее, — о «многоипостасной единой природе», «многоипостасном всечеловеке». Однако, если мы вспомним, что Карсавин не стал последовательно проводить мысль о слиянии «индивидуальных личностей» в «безразличии единой Личности», то становится ясно, что различие между «всеединством» Карсавина и «всеединством» Лосского не столь уж существенно[147].
Пожалуй, именно в отношении к Лосскому и Карсавину мы могли бы сказать о различии в терминологии, не затрагивающем единства учений.
Таким образом, очевидно, что унаследованное от Л.П. Карсавина понимание «христологического догмата» сделало учение Лосского (в рассмотренном аспекте его) вариантом «почтенной» традиции — метафизики всеединства. К этой же традиции, создав собственную ее версию, принадлежал и один из главных оппонентов Владимира Николаевича — прот. Сергий Булгаков. Нам стало уже привычно видеть в их полемике спор Православия с «софиологической ересью». Но не стоит ли попристальнее вглядеться в давний спор; и не окажется ли, что он, хотя бы отчасти, был спором внутри единого направления? Между, так сказать, членами всеединого организма.
Но прежде, чем обратиться к рассмотрению этого вопроса, остановимся, чтобы увидеть, с какой естественностью связано учение о «символическом реализме как языке иконы» не только, как то представлялось Л. А. Успенскому, со взглядами В.Н. Лосского, но и с их парадигмой — философией Л. П. Карсавина.
«Со словом «лик», — пишет Карсавин, — соединяется представление о личности совершенной, об истинном и «подлинном». Лик святого — его совершенная и существенная личность, только приблизительно и символически выражаемая изображениями, описаниями, характеристиками. Этот лик (ср. — «подлинник») «просвечивает» сквозь икону — образ, житие и самое эмпирическую личность».
[148].
Понятно, разумеется, что, говоря о Лике Христа, в этом случае придется говорить о Его человеческом образе как «символе», сквозь который «просвечивает» Его божественный Образ, божественный Лик. И икона оказывается не выражением веры в приятие Богом зрака раба, а уловлением сходства между «эмпирическим» образом и Первообразом. Надеемся, что нам удалось показать, что такое понимание иконы не случайно. А обусловлено определенной христологией и антропологией, не соответствующими святоотеческим. Отсюда — общее понимание иконы Успенским и Карсавиным (и, конечно, Лосским). Отсюда же — несоответствие этого понимания — святоотеческому.
4. В. Н. Лосский и прот. С. Н. Булгаков
В своей книге «Искусство иконы. Богословие красоты» известный парижский богослов Павел Николаевич Евдокимов пишет:
«Христологическое основание иконы — «Христос есть образ (εικων) Бога невидимого» ясно сформулировано святым апостолом Павлом. Он имеет в виду, что видимое человечество Христа есть образ Его невидимого Божества, «видимое невидимого» (выражение Дионисия Ареопагита, заимствованное Иоанном Дамаскиным. Слово первое. XI)[149]. Икона Иисуса являет, таким образом, одновременно образ Бога и образ человека, то есть является иконой всецелого Христа, Богочеловека»[150].
Подобные высказывания во множестве были приведены нами при рассмотрении творчества Л. А. Успенского. Но не странно ли, что мыслитель, являющийся последователем прот. Сергия Булгакова, считающий его «крупнейшим богословом нашего времени»[151] вдруг оказывается единомысленным с другом и единомышленником оппонента Булгакова — В.Н. Лосского? Ответить мы сможем, лишь проведя сравнительный анализ ряда интересующих нас положений как в учении Булгакова, так и в учении Лосского.
Попытаемся рассмотреть, как в контексте догмата иконопочитания раскрывается учение о. С. Булгакова об ипостаси и образе во Христе.
«Христос имеет Свой образ, единый и тожественный, двояко: по Божеству Своему невидимо для тварных очей, по человечеству видимо. Существование образа не означает непременно видимости его тварными очами, ибо образ может быть как видимый, так и невидимый. Таков Сын как «образ Бога невидимого» (Кол. 1, 15): Он пребывает невидим для человечества, пока не является, то есть не становится видимым через человечество в боговоплощении. Один и тот же Образ, сущий в лоне св. Троицы, проницает видимый мир и запечатлевает его Собою, являясь в человеческом образе.
Христологический догмат характеризуется соединением двух положений: единая ипостась с единством жизни при двух природах. В отношении же к иконе как иконоборцы, так и иконопочитатели рассуждали так: по человеческой природе, вернее, по телесному естеству, Христос имеет видимый образ, изобразим, а по Божеской Он не имеет его и неизобразим. Поэтому в отношении к образу они разделяли природу, а тем самым ограничивали силу образа для того, чтобы хотя как-нибудь его спасти и совсем не отвергнуть. Но образ принадлежит не природе Христа в ее двойстве, но самой ипостаси Его в ее единстве. Христос, имея единую ипостась, хотя и в двух природах, имеет единый образ, лишь раскрывающийся в двух природах двояко: невидимо — духовно, и видимо — телесно. Или, можно иначе сказать, что образ этот не вообразим нами по Божеству своему, но вообразим или изобразим по своему человечеству. В нем он видим, а все видимое изобразимо, или может иметь свою икону. Поэтому и возможна икона Христа, именно по Его видимому человеческому образу, который однако тожествен с Его же образом невидимым, Божественным. И как при определении взаимоотношений обеих природ во Христе православное богословие учит о περιχωρησις, взаимном проникновении, взаимосходности обеих природ при всей раздельности их, так и в отношении к Образу Христову, печатлеющемуся в Его Божестве и человечестве, мы должны принимать также своего рода перихорисис. Последний выражается в том, что в человеческом образе Христа явственно святится Его Божественный образ. Некое наведение к этому к этому мы имеем в Преображении Господнем: на горе Фаворе ученики увидали Господа, изменившего Свой образ, преобразовавшегося. Что это значит? А то, что, хотя Он и сохранил свой собственный человеческий образ, но этот образ стал прозрачен для невидимого его божественного образа: «и якоже вмещаху ученицы, славу Твою, Христос Боже, видима». Слава — это и есть духовный божественный образ Христа, а прославление Его тела, явление его во славе, и есть его проницаемость для Божества, тот именно περιχωρησις, о котором мы говорим. Тело господа, просветленное после Воскресения, уже неизменно сохраняет черты этого прославления <...>. Видимый образ Бога в человечестве Христа не только был доступен восприятию, видим его современниками, но он и вообще изобразим, т.е. возможна его икона»[152].
Эта пространная цитата из сочинения прот. Сергия Булгакова «Икона и иконопочитание» поразительным образом сходствует с тем христологическим основанием возможности иконы Христа, которое, с опорой на В. Н. Лосского, дает Л. А. Успенский. И, к сожалению, необходимо признать, что, сходствуя между собой, позиции и Булгакова, и Лосского, и Евдокимова не соответствуют святоотеческому учению.
Мы не намерены преувеличивать сходство Лосского и о. Булгакова; в их сочинениях гораздо больше расхождений, нежели сходств. Но в данном случае очевидно, что некоторые важные черты в христологическом обосновании предмета и смысла иконы Христа у них практически тождественны. Поэтому мы считаем возможным подтвердить, что полемика Лосского и о. Сергия отчасти была полемикой внутри единого направления мысли.
Если мы рассмотрим представление о. Сергия Булгакова об ипостаси и образе, то, к немалому удивлению привыкших видеть лишь расхождения его с Лосским, обнаружим и общее.
В работе «Спор о Софии» Лосский так определял одну из представлявшихся ему расходящимися с Православной традицией мыслей о. Сергия:
«Говоря о софианской антропологии о. С. Булгакова, мы уже имели случай отметить ее основную черту: ограничение человеческой природы душой и телом и отождествление личности, или ипостаси, с духом, который, таким образом, перестает быть для о. С. Булгакова частью природы. Отсюда получается аналогичный вывод и в христологии: Божественная Ипостась (личность), Логос, отождествляется с человеческим духом (для о. С. Булгакова — «личностью») Христа, человеческое естество Которого, как и всякая человеческая природа в антропологии о. С. Булгакова, ограничивается душой и телом. Получается новое аполлинарианство, где Логос-дух заменяет человеческий дух в Христе»[153].
Но ведь и для Владимира Николаевича ипостась не является частью природы! А то, что он отождествляет ипостась не с духом человеческим, а с некоей «несводимостью», то это здесь не так важно, как кажется Лосскому. Здесь, как и в случае с Карсавиным, различите в значительной степени лишь терминологическое. Все-таки о. С. Булгаков отождествляет скорее не ипостась с духом, а — наоборот, дух с ипостасью. То есть то, что он называет «духом» есть нечто (или — некто, как выразился бы Лосский), вполне соответствующее «ипостаси», как ее понимает Владимир Николаевич. Напомним, что ипостась, по Лосскому, несводима к природе и только произвольно, против языка не определяется им как «нечто». Под «духом» о. Сергий подразумевает нечто, ипостасирующее человеческую природу, образующее ее по образу Божию:
«Тварные ипостаси суть образы нетварных Божественных ипостасей. Как моноипостасные, эти образы в единичности своей не отражают триипостасности Божией, они могут отражать лишь ее отдельные ипостаси. Но может ли Отчая Ипостась быть первообразом для тварных ипостасей, когда сама она открывается в Софии, в Божественном мире не в Своем собственном лике, но чрез Сына и Духа Святого? <...> В отношении к человеку образ ипостаси его может быть лишь от ипостасей, открывающих Отца, как в его собственном мире, так и в тварном. Такая ипостась есть. Прежде всего, ипостась Логоса, которая и есть Первообраз тварных человеческих ипостасей, как Его лучей: «был свет истинный, который просвещает всякого человека, грядущего в мире» (Иоан. 1, 9). Человеческие духовные лики суть образы Логоса Небесного <...>»[154].
Ипостась, или «духовный лик» человека, есть ипостасное начало, которое о. Сергий точно так же как Лосский (и Карсавин) и не может отождествить с природой, так как это начало, говоря словами Лосского, «сообщает человеку его личностное бытие». Для пояснения сказанного нами разберем одно показательное место из «Богословского понятия человеческой личности».
«В каком же смысле, — спрашивает Лосский, — должны мы проводить различие между личностью, или ипостасью человеческой, и человеком как индивидуумом, или отдельной природой? Каково значение личности по отношению к человеческому индивидууму? Не есть ли она высшее качество индивидуума, качество его совершенства как существа, сотворенного по образу Божию, и не является ли это качество в то же время и началом его индивидуальности? Такой вывод может показаться правдоподобным, в особенности если мы учтем тот факт, что все попытки показать в человеке то характерное, что в нем «по образу Божию», почти всегда относят к его высшим «духовным» способностям. (Напомним, однако, что сщмч. Ириней Лионский простирал образ и на телесную природу человека). Высшие способности человека, служащие проявлению свойственной ему «сообразности», в трихотомической антропологии получают наименование νους; термин этот перевести трудно, и его смысл мы должны передать словами «человеческий разум». В таком случае человек личностный есть как бы некий νους, некий воплотившийся ум, связанный с природой животного, которую он «воипостасирует» или, вернее, которой он, над нею господствуя, противопоставляется. Мы действительно можем найти, в особенности у отцов IV века и в частности у св. Григория Нисского, развернутое учение о «нус» как о местопребывании свободы (αυτεξονσιοτας), способности самостоятельно принимать решения, что и придает человеку качество существа, сотворенного по образу Божию, — то качество, которое мы можем назвать личные его достоинством.
Но попытаемся рассмотреть эту новую схему, которая как бы опирается на авторитет отцов в свете христологического догмата. Мы тотчас же убеждаемся, что от нее не следует отказаться. Если бы действительно νους был в человеке тем «ипостасным» началом, которое дает ему статус личности, то для сохранения ипостасного единства в Богочеловеке надо было бы изъять человеческий ум из природы Христа и заменить тварный «нус» Божественным логосом. Иначе говоря, мы должны были бы принять христологическую формулу Аполлинария Лаодикийского. Надо отметить, что именно св. Григорий Нисский целенаправленно критиковал заблуждение Аполлинария, и поэтому мы считаем, что, несмотря на спиритуалистический уклон его учения об образе Божием, «нус» человека нельзя понимать только в толковании св. Григория как ипостасное начало, сообщающее человеку его личное бытие.
Если это так, то понимание ипостаси, личности, человека как части его сложной индивидуальной природы оказывается несостоятельным. И это в точности соответствует несводимости ипостаси к человеческому индивидууму, в чем мы убедились, когда говорили о Халкидонском догмате»[155].
Во-первых, отметим, что святитель Григорий Нисский совсем не нуждается в снисхождении, ни в подобного рода «оправдании». Потому, что он, в полном согласии с другими свв. отцами и Соборами различал ипостась человека и то в составе человеческой ипостаси, что сотворено по образу Божию. Ипостась уже по одному тому не может быть у свт. Григория частью сложной индивидуальной природы человека, что есть сложная ипостась, соединяющая в человеке дух («нус»), душу и тело (если пользоваться трихотомической формулой) или, что то же, — разумную душу и тело (в случае, если мы используем дихотомическую формулу).
То, что Лосский здесь пытается оспорить, говоря, что эта «новая схема» как бы опирается на авторитете отцов, на самом деле просто не имеет к отцам никакого отношения. «Высшие способности человека», «душа», «дух», «нус» — все это действительно разные названия для того, что, по учению Церкви, есть и сотворено по образу Божию в человеке. Но это не ипостась! И не ипостасное начало!
Во-вторых, спросим, наконец, со всею серьезностью: «Чем же все-таки объяснить нежелание Лосского иначе определить термины «ипостась» и «личность», кроме как: «несводимость к природе» и «отличие от природы»? Но ответить внятно для Лосского означало бы признать правоту о. С. Булгакова. В своем «Споре о Софии» Лосский неоднократно подчеркивает, что главной ошибкой Булгакова является смешение ипостаси и природы. Но этот упрек не вполне справедлив. Отец Сергий достаточно ясно и очень сходно с тем, как это делает Лосский, различает ипостась и природу. Более того, он точно так же не мог удовлетвориться обычным различением терминов «ипостась» и «усия», которое принято у свв. Отцов, видел в нем «покров античной философии»:
«Античная философия даже и в высших своих достижениях не знает проблемы личности как таковой, философски не замечает самосознающего «я», не «удивляется» ему. Она знает и интересуется личностью не как «я», но скорее как конкретной индивидуальностью, в которую облекается это «я». Можно сказать, что она знает личность не в личном самосознании, не в образе местоимения первого лица, но лишь как он или оно, предмет или вещь, не подлежащее, а сказуемое. Но личность, хотя и имеет предикативное определение, однако им не исчерпывается и даже не установляется. Античная философия о личности спрашивает не кто, но что или каков <...>
И хотя античная патристическая философия практически всегда отличает, где идет дело об индивиде, как личности, и где как о предмете, однако философские средства античной и патристической философии дают ей возможность понимать личность лишь как особую вещь или индивид, ατομον. Она знает личность лишь в свете противопоставления общего и особенного»[156].
Проведя некоторое исследование, отличающееся от проведенного Лосским в «Богословском понятии человеческой личности» только большей подробностью (о. Сергий цитирует и тексты свт. Василия Великого и Леонтия Византийского, кроме текстов, на которые ссылается Лосский), Булгаков приходит к тому же выводу, что и его критик:
«Итак, можно сказать, что понятие ипостаси в античной и греческой мысли (о. Сергий здесь имеет в виду как Аристотеля, так и греческих отцов Церкви — К.Ш.) есть преимущественно физическое: оно распространяется и на предметы неодушевленные (факел, дерево, куча камней, вообще индивидуум — ατομον), оно возникает не в отношении к самосознающему и в этом смысле ипостасному личному духу, но в отношении к объектам, в которых специфицируется общее начало, природа, никогда не проявляющаяся вне такой спецификации <...>[157] Неудовлетворительность этой схемы состоит именно в ее объективно-физическом характере, в силу чего она оказывается недостаточна для того, чтобы уловить различие ипостаси и природы там, где оно единственно существует, т.е. в человеческом духе»[158].
Кажется, что различие между Лосским и о. С. Булгаковым все-таки обнаруживается в том, что первый видит «различие ипостаси и природы» в «несводимости» личности, ипостаси к природе, а второй говорит о нетварной духовной природе ипостаси, не сводимой к человеческой природе. Отсюда — все обвинения Булгакова в гностицизме. Обвинения, на наш взгляд, совершенно справедливые. Но о. С. Булгаков лишь выговаривает то, что замалчивает, о чем молчит (возможно, даже не отдавая себе в этом отчета) Лосский! Если «ипостась» мыслить не так, как ее мыслили свв. отцы, а как некую «несводимость», отличную от природы, то речь неизбежно должна вестись о некоем «ипостасном начале» не вовсе же неприродном, а отличном именно от человеческой природы, сверх-природном и «ипостасирующем» человеческую природу. Лосский, пройдя, по сути, весь путь вместе с Булгаковым, вместе с ним отвергнув святоотеческое учение об ипостаси, заканчивает, мягко говоря, «ноэтическим образом», некоей зыбкой неясностью, позволяющей не заговорить об ипостаси как «нетварном ипостасном начале» в человеке, отличном от «ипостасируемой природы», и к ней, к человеческой природе, несводимой[159]. Тот способ, которым Л. П. Карсавин, прот. С. Булгаков и В. Н. Лосский мыслят ипостась, отличая ее от индивидуума, заставляет их при осмыслении Халкидонского догмата говорить или об отсутствии ипостаси в человеке (Карсавин), или — об ипостаси как начале «нетварном» и потому отличном от индивидуума-человека (Булгаков), или — о несводимости к индивидууму (Лосский). Но в любом случае, все трое едины во мнении, что «то понятие об ипостаси, которым располагало восточное богословие, совершенно не дает возможности изложить этот догмат»[160]. И мудрено ли, что в оценке способностей отцов Церкви ясно формулировать догматические истины все трое открыто сомневаются. Пусть читатель сам решит, насколько мысль Лосского о необходимости, «если как мы видели, христианская антропология не придала нового смысла термину «человеческая ипостась», попытаемся обнаружить другое такое понимание личности, которое уже не может быть тождественным понятию «индивидуум» и которое, хотя не зафиксировано само по себе строгим термином, тем не менее в большинстве случаев служит невыраженным обоснованием, сокрытым во всех богословских или аскетических вероучениях, относящихся к человеку», — насколько это мысль, по существу своему отказывающая свв. отцам в элементарной способности понимать собственные писания, отлична от сказанного о. Сергием: «Можно сказать, что лишь неким божественным инстинктом, вопреки всему несовершенству терминологии и связанной с нею неясности мысли, патристическая эпоха совершила свою гигантскую догматическую работу»[161]. С одной стороны, сомнение в умственных способностях отцов Церкви выражено у Лосского более «сокрыто», с другой — и у Булгакова, хотя и инстинкт вместо «нуса», но все-таки «божественный»...
5. Со-образность и περιχωρησις
Итак, «ипостась», как ее понимают и Лосский и Карсавин, и Булгаков есть некое «ипостасное начало», «ипостасирующее» природу, оформляющее ее, образующее. Поскольку «ипостась» у всех троих есть и «образ Божий», то неудивительно, что со-образным Богу оказывается и тело человека, как «ипостасируемое», образовываемое ипостасью. К приведенным цитатам из Карсавина и Лосского добавим и суждение единомысленнного с ними в этом вопросе Булгакова:
«Человек имеет в себе образ Божий, как онтологическую основу своего существа причем этот образ не ограничивается какой-либо одной стороной его или свойством, но проникает во всю его жизнь»[162].
Понятно, что и христологические основания иконы, понимаемые в таком случае как про-явление Образа Божия — Логоса в со-образном Ему образе раба, то есть являющемся образом Первообраза, оказались одинаковы. С демонстрации этого поразившего нас согласия мы, напомним, и начали данный параграф.
Однако в приведенной нами в самом начале цитате из Булгакова осталась без внимания одна мысль, к рассмотрению которой мы и обратимся теперь. Мы имеем в виду следующие слова прот. С. Булгакова:
«И как при определении взаимоотношений обеих природ во Христе православное богословие учит о περιχωρησις, взаимном проникновении, взаимосходности обеих природ при всей раздельности их, так и в отношении к Образу Христову, печатлеющемуся в Его Божестве и человечестве, мы должны принимать также своего рода перихорисис. Последний выражается в том, что в человеческом образе Христа явственно святится Его Божественный образ. Некое наведение к этому к этому мы имеем в Преображении Господнем: на горе Фаворе ученики увидали Господа, изменившего Свой образ, преобразовавшегося. Что это значит? А то, что, хотя Он и сохранил свой собственный человеческий образ, но этот образ стал прозрачен для невидимого его божественного образа: «и якоже вмещаху ученицы, славу Твою, Христос Боже, видима». Слава — это и есть духовный божественный образ Христа, а прославление Его тела, явление его во славе, и есть его проницаемость для Божества, тот именно περιχωρησις, о котором мы говорим».
Сравним эти слова со словами последователя В. Н. Лосского и Л. А. Успенского и непримиримого критика о. С. Булгакова — прот. Николая Озолина, цитировавшиеся нами уже в статье об Успенском:
«Образ Божий в человеческой природе воплощенного Логоса полностью восстановлен, вплоть до совершенного богоподобия. Как это возможно? По учению преп. Максима Исповедника, образ отличен от первообраза способом существования — τροπος υπαρξεως — но их единство, и более того, их личная тождественность, обеспечивается проникновением энергий прообраза в образ. Как совершенно правильно отмечает В. М. Живов, «по мере того как энергии архетипа наполняют образ, способ бытия образа — преодолевая основные оппозиции, отделяющие образ от первообраза — близится к способу бытия первообраза. Это и есть возвращение образа к первообразу, предмета — к своему логосу, обожение человека и космоса... Весь этот процесс христоцентричен, поскольку во Христе начато и прообразовано это взаимопроникновение образа и первообраза. Этот процесс дал первично во взаимопроникновении (περιχωρησις) энергий человеческой и божественной природ во Христе... поскольку в воплотившемся Христе дан и образ и первообраз».
Другими словами, «будучи воспринятым в божественную ипостась, человечество Спасителя, став лично Его, преобразилось через περιχωρησις энергий двух природ, и соделалось совершенно богоподобным, то есть подобным Ему Самому — оно стало так сказать до конца «самоподобно». По-видимому, именно это имеет в виду преподобный Максим Исповедник, говоря, что воплощенный Логос в своей преображенной плоти «из Самого Себя явил Себя же, сделав Себя Видимым» (P.G. 91, 1165D — 1168А). Именно потому, что Он сделал неописуемый прежде природный Образ Отца (то есть свою божественную ипостась) описуемым, лично став этим «самоподобным Образом», Господь и сказал Филиппу: «Кто меня увидел, увидел Отца» (Ин. 14:9).
Для того чтобы «преображенная и нетленная плоть нетленного Бога» стала, по словам святителя Германа, «видимым Богоявлением», на рукотворных иконах и нужно придерживаться того, выработанного Церковью, иконописного языка, то есть «канона», который во множестве местных и личных стилей наглядно показывает не по-несториански «просто человека», а в меру своих условных художественных возможностей — благодатное самоподобие Христа, Богочеловека, и этим позволяет зрительно и опытно познать, что Прообраз — Божественное Лицо Воплощенного Слова — и рукотворная Его икона обладают запечатленной единоимянностью и физическим сходством ипостасной тождественностью, со всеми отсюда вытекающими благодатными последствиями»[163].
Сходство, кажется, настолько очевидно, что не нуждается в пояснениях[164]. Впрочем, есть и отличие: если Булгаков (как и Успенский, чего не хочет замечать о. Николай) учит об одном образе во Христе, хотя и «двояком», то о. Николай Озолин, с опорой на прп. Максима Исповедника, а, скорее, — с опорой на интерпретацию учения преподобного, данную В. М. Живовым, учит о двух образах, со-образных как образ и Первообраз[165].
В статье об Успенском мы уже указывали на несоответствие учения о со-образности человеческого и божественного образов во Христе учению святоотеческому, приводя, например, прямое запрещение искать сообразность свт. Кирилла Александрийского. Пытались мы также прояснить эту проблему в данной главе. Однако следует все-таки рассмотреть более внимательно, насколько учение прп. Максима о перихоресисе может быть основой учения о сообразности двух образов, то есть, иными словами, быть основой для того, чтобы отвергнуть мнение на этот счет свт. Кирилла Александрийского. Для этого как нельзя лучше подойдет работа «совершенно правильно», на взгляд о. Николая, понимающего учение прп. Максима В. М. Живова «Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа».
Свою работу Виктор Маркович начинает полемикой с теми исследователями, «которые полагали, что основа воззрений иконопочитателей была неоплатонической, что отношение иконы и архетипа понималось иконопочитателями подобно отношению идеи и предмета в платонической философии»[166]. Если бы автор имел в виду, что иконопочитателям было чуждо представление, например, Плотина, что «искусства не просто подражают видимому, но возводят свой взгляд к логосам, из которых происходит природа»[167], а, напротив, они трезво понимали отношение иконы и архетипа как подражание внешнему виду изображаемого[168], то он был бы совершенно прав. Однако В.М. Живов совсем не догадывается, думаем, об отсутствии у иконопочитателей даже намека на склонность к духовному опьянению художественных «прозрений» неоплатоников. Поэтому он судит иначе:
«Однако неоплатонизм <...> не мог быть обоснованием всей практики иконопочитания. Поскольку оппозиция ноэтического и чувственного в неоплатонизме <...> не снималась и чувственное могло лишь изображать ноэтическое, воззрение этого рода могли оправдать лишь мистико-познавательную функцию икон, но не поклонение иконам, не веру в нерукотворные и чудотворные образы. Иконопочитатели утверждали нечто большее, чем изобразительное отношение иконы и архитипа, именно что икона имеет ту же силу или энергию, что и архетип (отсюда — чудотворность и возможность поклонения — προσυνησις <...>). Согласно неоплатоникам, энергия, зависимая от природы, низшим видам бытия сообщаться не может, в особенности материальному как тварному по преимуществу. И именно отсюда уясняется значение апологии вещественного, «честной материи» (υλη τιμια) у Иоанна Дамаскина <...> как утверждения возможности для нее обладания божественной энергией. Апология же материи основывается на воплощении Бога Слова, энипостасировавшего человеческую природу <...>, отсюда христологический аргумент иконопочитателей»[169].
Таким образом Живов твердо приписывает иконопочитателям неоплатонические воззрения на возможность использовать изображение в «мистико-познавательных» целях и не сомневаться, что требование сходства образа с первообразом в устах защитников икон было требованием сообразности чувственного и ноэтического[170].
Но, перепутав учение Церкви с неоплатоническим и усвоив свв. отцам взгляд на связь иконы с архетипом, которого они не придерживались, Живов зато и с «неоплатониками» обходится достаточно вольно. Делает он это фразой, достойной тщательного разбора: «Согласно неоплатоникам, энергия, зависимая от природы, низшим видам бытия сообщаться не может, в особенности материальному как тварному по преимуществу». Во-первых, остается неясным, может ли, «согласно неоплатоникам», сообщаться низшим видам бытия энергия, не-зависимая от природы, и чем она отличается от зависимой, и что вообще означает термин «зависимая от природы энергия». Хотел ли автор просто сказать, что энергия высшей природы не может быть, «согласно неоплатоникам», сообщена природе низшей?
Во-вторых, вызывает большие сомнения, чтобы какие-либо неоплатоники считали «материальные виды бытия» тварными — хоть «по преимуществу», хоть в малой степени. Без пояснения термина «тварный» не совсем и понятно, идет ли речь о неоплатонической теории эманации Единого, причаствуемого всеми видами бытия, или — о христианском учении о творении мира, различающем тварь и Творца. Но, так ли, иначе ли понимаемое значение слова «тварный» не поясняет, каким образом материальный мир представлялся «неоплатоникам» отчасти нетварным, но «по преимуществу тварным».
В-третьих, непонятно, о каких, собственно, «неоплатониках» автор ведет речь. Заявление: «согласно неоплатоникам» — более всего здесь напоминает, например: «согласно ученым», или: «ученые полагают»[171]. В данном случае ссылка на вообще «неоплатоников» невозможна, и должно быть сообщено, говорится ли здесь, положим, о Порфирии, или — о Ямвлихе, бывшем оппонентом Порфирия именно в вопросе о сообщаемости энергий высших природ низшим, в том числе и предметам, образам и материальным знакам, посредствующим в соединении с «богами» в языческих мистериях. В произведении «О египетских мистериях» Ямвлих говорит:
«Что же, в самом деле, разве есть то, что препятствует богам проникать повсюду? И что сдерживает их силу так, что достигает небесного свода? Ведь такое было бы действием более сильной причины, запирающей и ограничивающей их в неких областях. Даже истинно сущее, само по себе бестелесное, пребывает повсюду, где бы оно ни захотело, а уж божественное, все предержащее, если оно объемлется пусть даже и совершенством целого космоса и словно охватывается им в некоей части, то тем самым уступает телесному величию. Я же, со своей стороны, не вижу, каким образом сотворяется и оформляется здешнее, если никакое божественное творение и никакая причастность божественным образам не простирается через весь космос в целом.
Вообще это самое мнение является отрицанием жреческого служения и теургической общности богов с людьми, поскольку оно изгоняет с земли лучших. Ведь оно не утверждает ничего иного, кроме того, что божественное удалено от земного, что боги не имеют сообщения с людьми и что это место не населено ими. Стало быть, согласно этому рассуждению, даже мы, жрецы, ничему не научились от богов <...>
Но в этом нет ничего здравого. Ведь боги не содержатся в неких определенных частях космоса, ни земное не осталось непричастным им. Напротив, они — лучшее в нем, поскольку ничем не объемлются и объемлют в себе все. Земное же, обладая бытием в изобилии богов, всякий раз, когда оказывается способным к божественному участию, непосредственно получает взамен собственной сущности предсущих в ней богов»[172].
«<...> из того, что всякий раз совершается в храмах, одно имеет неизреченную и превышающую разум причину, другое извечно посвящается лучшим в качестве символов, третье сохраняет некое иное уподобление, как, например, свершающая рождение природа невидимых смыслов запечатлелась в неких невидимых изображениях, четвертое подносится ради почести или имеет в виду какое бы то ни было уподобление или родство. Кое-что же приносит пользу нам самим: или очищает каким-то образом и разрешает наши человеческие страсти, или отвращает какое-то другое постигающее нас бедствие <...> Обращаясь же к отдельным примерам, мы утверждаем, что установка фаллов является неким условным знаком детородной силы, и считаем, что тем самым это сила побуждается к творению становления космоса. Потому-то именно такая установка по большей части совершается ранним утром, когда весь космос восприемлет от богов просвещение на свет всяческого становления <...> священные имена богов и остальные божественные знаки, открывая путь для восхождения к богам, в состоянии соединять с ними»[173].
«Но подношения, говоришь ты, приносятся им, словно ощущающим и душевным. Да, если они исполняются только телесными и составными силами или становятся как бы предлагаемыми для пустого служения орудиями. Но поскольку подносимое причастно неким бестелесным образам, смыслам и более простым мерам, то его своеобразие рассматривается только так, и если присутствует близкое или дальнее родство или сходство, то даже его достаточно для того соприкосновения, о котором мы сейчас говорим. Ведь не существует ничего, постепенно уподобившегося богам, в чем боги непосредственно не присутствуют и с чем не соприкасаются. Следовательно. Возможное для этого соединение происходит не как с ощущаемыми или душевными но на основе самих божественных образов и с самими богами»[174].
Этих нескольких фрагментов достаточно, чтобы убедиться в недопустимой поверхностности суждений В. М. Живова о неоплатонизме. Но при желании можно привлечь и тексты других неоплатоников, которых также нельзя заподозрить в согласии с тем, с чем они, по мнению Живова, должны быть согласны. Величайший систематизатор неоплатонической философии Прокл так говорит о природе тел, погруженной в них и от них неотделимой:
«Стало быть, природа — последняя из причин, творящих то, что телесно и чувственно, и предел распространения бестелесных сущностей, она полна логосов и сил, с помощью которых направляет внутрикосмические вещи, и она — бог, однако не прямо, а через обожествление она является богом (ведь и божественные тела мы называем богами как изваяния богов, а не как самих богов...»[175].
Можно вспомнить об уверенности Прокла, что «теургия посредством неких символов взывает к независтливой благости богов ради того, чтобы они осветили своим сиянием рукотворные изваяния»[176]. Сам материал для изваяний «богов» приготовлялся, согласно Проклу, особенным образом, дабы «взывание» не осталось втуне и они (изваяния) получили бы божественную силу:
«А смешение необходимо из-за того, что оно учитывает каждую из несмешанных вещей, имеющую какую-либо особенность бога, недостаточную, если видеть ее отдельно от других, для призывания его; поэтому смешением многих вещей они объединяют вышеназванные истечения и употребляют единое, возникшее из смешения всех элементов смеси, тому целому, которое существует прежде всех вещей, и часто подготавливают изваяния, используя при этом смеси и фимиамы, смешивая в одно разделенные знаки и делая, с помощью искусства, бога — объемлемым, каков бы он ни был по сущности, сообразно объединению большого количества сил, разделение которых затемняет каждую из этих сил, а смесь которых возводит полученную через объединение силу к идее образа»[177].
Жизнь Прокла, если верить его ученику и биографу Марину, была насыщена как неустанным поклонением изображениям «богов», так и многочисленными «чудотворениями» вследствие его молитв и жертвоприношений. Кроме того, он прославился и великолепными гимнами. Впрочем, согласно неоплатонику Марину, «в храмах не все приходят к алтарям с одинаковыми жертвами, чтобы снискать благоволение алтарных богов, а иные с быками, иные с козлами, иные с чем-нибудь еще, и одни творят славословия складно и в стихах, а другие без всяких стихов, и кому нечего принести, те приходят только с лепешкою да при случае с зернышками ладана, а к богам взывают лишь в короткой молитве»[178].
Мы могли бы еще умножать примеры. Но ограничимся этими. И напомним о понятии, о котором напрочь забывает Виктор Маркович, давая свою оригинальную версию неоплатонизма. Понятии, согласно неоплатоникам, центральном в их системе и совершенно не совместимом с мировоззрением, рисуемым Живовым, — προοδος — «выхождение за пределы», «эманация». Представление об эманации делает все уровни бытия сопричастными (μεθεξις) Единому (το εν), почему можно сказать о невозможности согласовать учение неоплатоников и фантастическое утверждение о нем В. М.Живова.
Вместе с тем, автор несколько однобоко интерпретирует отношение иконопочитателей к иконам, полагая «возможность поклонения» им обусловленной тем, что «икона имеет ту же силу или энергию, что и архетип», и объясняя возможность чудотворения возможностью для вещества, из которого сделана икона, «обладания божественной энергией».
Во-первых, что касается до чудотворения, то поклонение иконам совсем не стоит с ними в таковой однозначной зависимости, как это можно понять из текста Живова. Свт. Патр. Тарасий так сказал о чудотворениях, творимых иконами:
«Но, быть может, кто-либо скажет: «Отчего же находящиеся у нас иконы не творят чудес?» Таковому мы ответим: «Потому что, как сказал апостол, знамения даются тем, кои не веруют, а не тем, кои веруют»[179].
Во-вторых, утверждение об «обладании» веществом, материалом божественной энергией воспринимается как аналог неоплатонической идеи «сопричастия». Ни образ, ни, тем более, материал, из которого он изготовлен не обладают божественными энергиями, благодатью сами по себе. Благодатью обладает в собственном смысле этого слова только Бог. Икона — не «накопитель», ни «передатчик» благодати. Благодать посылается Богом не посредством предмета, иконы, а непосредственно человеку. Икона посредствует не поданию благодати, а обращению к первообразу — изображенному на иконе лицу. Сам Христос (в случае же, когда молитва обращена к Богородице или святым, — то по их молитвам о нас), а не икона Его отвечает молящемуся, взирающему на икону не в надежде, что образ имеет «ту же силу и энергию, что и архетип» (что равносильно магии), а что обращенные к иконе молитвы обращены к Тому, Кто на ней изображен, «потому что честь, воздаваемая иконе, относится к ее первообразу и поклоняющийся иконе покланяется ипостаси изображенного на ней». Всякая попытка предположить обладание энергиями архетипа самой иконой неизбежно приведет (и, к сожалению, часто приводит!) к возданию иконе не подобающего ей относительного, но — боголепного поклонения (хотя «поклонение» здесь будет носить характер магического ожидания чуда от чего-то «божественного» или «обоженного»; то есть не станет апологией материального образа, но его обожествлением)[180].
Таким образом, мы видим, что проблема иконопочитания изначально поставлена В.М. Живовым в неверном ракурсе. Это заставляет сомневаться, что христологический аспект проблемы может быть осмыслен автором в соответствии со святоотеческим учением.
Правильное понимание «христологического аргумента иконопочитателей» Живов видит достижимым через уразумение того, каким образом было «переработано неоплатоническое наследие» в византийской мысли VI-VII веков. Живов говорит о преодолении неоплатонизма в творчестве прп. Максима Исповедника, имевшего дело, на взгляд Виктора Марковича, с неоплатонизмом «в форме, приданной ему Пс.-Дионисием»[181].
То, как прп. Максим «переработал неоплатоническое наследие, в частности систему Пс.-Дионисия»[182] Живов предполагает разобрать на основании сравнения представлений о литургическом образе прп. Максима и «Пс.-Дионисия», логично рассудив, что этот разбор будет иметь значение и для понимания представлений иконопочитателей об образе иконописном, так как «само перенесение теоретических представлений о литургической образе на образ иконописный — это вполне естественное развитие» теории образа вообще[183]. Но начать разбор корректно у Виктора Марковича не получается, так как он сразу вводит проблему в неверный контекст:
«В «Мистагогии» дается толкование евхаристического действа и, как следствие, выявляется природа «литургического образа» <...> Перенесение понимания литургического образа на образ живописный облегчается тем фактом, что Максим развивает свое учение о литургии и церкви в контексте противопоставления ноэтического и вещественного, о котором он будет говорить во 2-й главе «Мистагогии». Это тот самый контекст, в котором будет решаться и вопрос об иконах»[184].
В качестве подтверждения своей мысли, что противопоставление ноэтического и вещественного есть контекст, в котором решается вопрос об иконах, Живов ссылается на два текста прп. Иоанна Дамаскина: Слово в защиту святых икон 1-е, § 11, и Слово 3-е, § 21. Рассмотрим оба текста. В первом случае прп. Иоанн, обосновывая возможность иконописного изображения приводит в пример «видимые вещи телесно выражающие те предметы, которые невидимы и лишены формы»[185]. К таковым вещам он относит образы, коими Писание облекает Бога и ангелов, или «в тварях мы различаем образы, прикровенно показывающие нам божественные отражения, так что когда говорим о Святой Троице, высшей всякого начала, то изображаем себе посредством солнца и света и луча, или — бьющего ключом источника и вытекающей влаги и течения, или — ума и слова и находящегося в нас дыхания, или — ствола розы и цветка и благовония»[186]. Необходимость для человека таких образов прп. Иоанн, с опорою на св. Дионисия Ареопагита и свт Григория Богослова, видит в том, что «мы не в состоянии подниматься до созерцания духовных предметов без какого-либо посредства, и для того, чтобы подняться вверх, имеем нужду в том, что родственно нам»[187]. Очевидно, что здесь речь действительно идет о противопоставлении ноэтического и вещественного. Но подобного рода образы могут присутствовать на иконах в качестве иконографических символов или аллегорий. А вот собственно иконописный образ мыслится прп. Иоанном вне названного противопоставления:
«... если божественное Слово, предусматривая нашу способность к восприятию, отовсюду доставляя нам то, что способно поднять вверх, облекает некоторыми образами как предметы простые, так и не имеющие образов, то почему не изображать того, что по своей собственной природе владеет образом и чего хотя мы и желаем страстно, но что, вследствие своего отсутствия, видимо быть не может?»[188]
Надеемся, не надо объяснять разницу между бестелесным, и потому невидимым, и по природе видимым, а невидимым лишь вследствие своего отсутствия? Только изначальная неоплатоническая установка не позволяет В.М. Живову увидеть, что в данном параграфе собственно иконописные образы понимаются прп. Иоанном Дамаскиным как вещественные видимые образы вещественных видимых первообразов.
Второй текст нет нужды рассматривать подробно, так как он почти буквально воспроизводит только что нами разобранный. Единственное существенное отличие — в нем вообще не говорится об иконах. О них преподобный говорит в § XXIII, и говорит то же самое, что мы видели выше:
«...и теперь мы с большою любовью начертываем изображения бывших прежде добродетельных мужей для нашего соревнования, и воспоминания, и удивления»[189].
А в следующем параграфе, отвечая на вопрос: «что изображаемо и что не может быть? и как всякий в отдельности предмет изображается?», — прп. Иоанн достаточно внятно разъясняет сказанное выше. Что же, согласно прп. Иоанну, может, и что не может быть изображено?
«Тела, как имеющие формы, и телесное очертание, и цвет, конечно, естественно выражаются посредством образов. Ангел же, и душа, и демон, хотя им и чужда телесность и величина, однако начертываются соответственно своей природе. Ибо, будучи духовными, они, как относительно их верят, пребывают и действуют духовным образом в духовных местах. Итак, хотя они и изображаются телесно, подобно тому, как Моисей изобразил Херувимов и подобно тому, как они являлись достойным людям, однако изображаются так, что телесный образ показывает некоторое зрелище бестелесное и постигаемое только умом. Божественная же природа — одна только она неописуема, и совершенно лишена вида, и не имеет формы, и непостижима. Хотя божественное Писание и облекает Бога формами, как кажется, телесными, так что могут быть видимы и фигуры, однако сами по себе формы бестелесны. Ибо пророки и те, кому они открывались, — ведь видимы были они не всем, — созерцали их не телесными глазами, но духовными. Просто же сказать — мы можем делать изображения всех фигур, которые видим; но те представляем мысленно, смотря по тому, как они показывались. Ибо мы иногда представляем себе фигуры вещей при посредстве размышлений, однако и к этому их пониманию приходим на основании того, что видели; так бывает и в каждом в отдельности чувстве: на основании того, что мы обоняли, или вкусили, или осязали, при посредстве размышлений приходим к представлению и этого»[190].
Даже бестелесное (ноэтическое) мы видим и изображаем, говорит прп. Иоанн, не как бестелесное, но как Бог «не желая того, чтобы мы совершенно не знали того, что бестелесно, облек его формами, и фигурами, и образами, применительно к нашей природе; фигурами, телесными, созерцаемыми при помощи невещественного зрения ума»[191]. То есть даже ноэтическое может быть изображено в том только случае, если мы созерцаем телесную форму, в которой оно нам представлено. Отсюда понятно, что собственный предмет иконы, — «то, что по своей природе владеет образом», — изображается со-образно видимому своему образу, что делает икону образом и подобием не ноэтического, а вещественного; отражением внешнего вида изображаемого лица.
Теперь посмотрим как, по Живову, обстоит дело с пониманием образа «литургического» у св. Дионисия Ареопагита и прп. Максима Исповедника. Виктор Маркович видит ряд черт, характеризующих равно оба названных понимания:
«Общее влияние Ареопагита <...> обнаруживается прежде всего в учении о λογοι всего тварного как тождественных божественных волениях (θειαθεληματα), являющимся промыслом Божиим о Его творениях. Это умозрение — как у Пс.-Дионисия, так и у Максима — лежит в основе всего их понимания творения и, следовательно, определяет контуры их космологического, а затем и онтологического учения. Близость Пс.-Дионисия и Максима в этом пункте для нас особенно существенна, поскольку для ареопагитик именно космология — основной раздел учения, от которого зависит и сотереология и антропология (поскольку она вообще присутствует) и, опосредованно, теория образа. В «Мистагогии» встречается ряд явных и скрытых ссылок на ареопагитики и схождений с ними, и среди них едва ли не самым важным представляется общий тезис о строении космоса: «Так и объемлющий все сущее космос, созданный Богом в творении, разделяется на космос ноэтический, который образуется ноэтическими или бестелесными сущностями и космос чувственный...» (Myst. 2: 679 A). Этот тезис восходит к высказываниям Ареопагита (ср.: Ер. IX: 1308 B), причем для Ареопагита эта мысль основоположна. Исходя из нее, он представляет ноэтический и вещественный уровни как изоморфные (ср.: DN IV, 9:70SB). Отсюда вещественное и получает свое символическое значение: всякий вещественный предмет может быть увиден как символ ноэтического (см: СН II, 4:141С). В этой системе располагается и его толкование богослужения — как символических действий с символическими предметами, позволяющими человеку (в меру возможностей данного человека, т.е. в меру его подлинного положения в земной иерархии) восходить к созерцанию ноэтического и в этом созерцании получать (через посредство иерархии) озарение, очищение и совершение <...> В силу этой же концепции любые вещественные предметы и любые исторические события <...> оказываются соотнесенными с ноэтическими сущностями лишь условно, в результате полагания <...> Поэтому и вся литургия — лишь условное символическое изображение духовного мира, отражение вечного, статического во временном и преходящем <...> это понимание распространяется и на само преложение Св. Даров»[192].
Виктор Маркович считает, что, хотя, «как кажется, Максим принимает изначальный тезис Ареопагита, однако в своем толковании литургии он ему не следует»[193]. Более того, уже во введении к «Мистагогии» Живов обнаруживает прямое на то указание:
«Правда, во введении к «Мистагогии» он (прп. Максим — К.Ш.) пишет, что не может «идти за ним», но мы не должны понимать эти слова слишком буквально. Не может «идти за ним» с равной возможностью означает и принципиальное и непринципиальное отвержение ареопагитской традиции <...> В то же время, если нежелание следовать Ареопагиту принципиально, это означает, что в основу умозрения положены иные принципы, иные исходные положения. Как в действительности обстоит дело, можно видеть из самих толкований литургии»[194].
На наш взгляд, чем дарить читателя изысканными психолого-филологическими открытиями (принципы умозрения зависят от принципиальности желаний), и чаять узнать как в действительности обстоит дело из сложного и многотрудного сравнения толкований литургии обоими авторами, проще начать читать их тексты с принципиальным желанием их понять. То есть, мы хотим сказать, — с самого начала (в данном случае — со Введения) надо быть внимательным читателем. Во введении к «Мистагогии» прп. Максим говорит о толковании литургии св. Дионисием Ареопагитом:
«Но поскольку святым и истинно богопросвещенным Дионисием в сочинении «О церковной иерархии» были рассмотрены, достойно величия ума его, символы, относящиеся к таинству святого собрания, то должно иметь в виду, что наше произведение не будет повторять того же самого и идти теми же путями. Ибо для не могущего постигнуть и понять Дионисия было бы дерзкой самоуверенностью, граничащей с безумием, стремление обсуждать те же самые вопросы и представлять как свои собственные тайны, богодухновенно явленные Духом только ему одному. Но [речь будет идти о том], что восприняли от него, по человеколюбию и воле Божией, другие, дабы упражняли и развивали они свои способности в исследовании [вещей] божественных. Тогда посредством этого всесветлый луч тайнодействий, соразмерно постигаемый ими, становится доступным для них...»[195].
Конечно, обнаружение уже во введении к «Мистагогии» пассажа, якобы свидетельствующего в пользу теории о преодолении прп. Максимом неоплатонизма «Пс.-Дионисия» и отвержение преподобным пути последнего, немало служит к тому, что и когда дело доходит до того, «как в действительности обстоит дело», читатель оказывается уже подготовлен, и гораздо легче согласится и на остальное. Но возможно ведь, что читатель, обнаружив подлог, заподозрит изначальную некорректность рассуждений автора и проникнется к ним законным недоверием. Но мы не знаем, как иначе назвать операцию, проделанную Живовым с мыслью прп. Максима, так как из фрагмента, который мы привели и на который он ссылается, ни каким образом нельзя вывести «отвержения».
Но продолжим. Первым из «коренных моментов, противополагающих понимание Максима ареопагическому», Живов называет христоцентризм. У св. Дионисия он видит отсутствие, так сказать, реального присутствия Христа в литургии:
«Хотя и говорится, что Христос вочеловечился, чтобы и мы могли соединиться с Ним, как члены с телом, однако, поскольку Св. Дары остаются лишь «честными символами, которыми знаменуется Христос» (ЕН,III,3, 9:437С), соединение верных с божественным, в частности с Божеством Христа, остается образным, и образ христиан как членов Тела Христа оказывается лишь метафорой»[196].
Действительно, если Св. Дары понимаются лишь как «честные символы, которыми знаменуется Христос», то соединение в таинстве Евхаристии оказывается лишь символическим. Но был ли св. Дионисий столь категоричен? Вот текст, который приводит Живов:
«И пойми это священно, — что когда чтимые символы (των σεβασμιων συμβολων), посредством который Христос обозначается и приобщается (σημαινεται και μετεχεται), бывают положены на божественный жертвенник, на небольшом расстоянии находится список святых, что показывает нераздельно сопряженное их сверхмирное и священное единство с Ним»[197].
Оказывается, что «в действительности обстоит дело» совсем не так, как его представляет читателю Виктор Маркович! Св. Дионисий и не думает, что Св. Дары — лишь символы, которые лишь обозначают Тело и Кровь Христа в литургии. Напротив, он полагает, что посредством этих «честных символов» Христос не только обозначается, но и приобщается, причаствуется верующими[198]. Поэтому утверждение В.М. Живова, что толкование Максима христоцентрично в отличие от толкования св. Дионисия, и что в отличие от последнего «обожение, которое дается в евхаристическом богослужении, дается в Христе и через Христа», — не верно, мягко говоря. Обожение, как мы видели, и в понимании литургии св. Дионисием подается в реальном приобщении Христу. Так что никакого «отличия» в этом вопросе нет, а есть чудное единомыслие святых.
Не намного более корректно и сопоставление Живовым понимания литургии св. Дионисием и прп. Максимом в другом «коренном моменте» — историзме.
«Для Пс.-Дионисия, — пишет Живов, — воплощение Христа освободило человека от небытия, от невозможности восхождения к божественному. Христос на место иерархии закона поставил церковную иерархию, раскрыв смысл Ветхого Завета в проповеди Нового. Тени Ветхого Завета заменяются образами Нового Завета, т.е. дается более совершенный путь богопознания. Однако, структура богопознания — через небесную иерархию — остается неизменной, почему и воспоминание исторического служения Христа имеет лишь релативное значение. Напротив, для Максима «событие» Христа имеет значение абсолютное...»[199].
Для подтверждения своей мысли Виктор Маркович ссылается на параграфы третий и пятый третьей главы «Церковной иерархи». Но, хотя мысль о раскрытии смысла Ветхого Завета в проповеди Нового там присутствует (и странно было бы несогласие с этой мыслью для христианина), ею представление о значении воплощения Христа далеко не исчерпывается. Св. Дионисий вовсе не считает воплощение Христа событием, имеющим лишь относительное значение:
«...справедливо Новый Завет проповедуется в мире после более древнего предания: тем самым в иерархическом в Боге покоящемся порядке открывается, я полагаю, что-то, что один сказал о будущих благодеяниях Иисуса, другой исполнил; и — что один написал истину в образах, а другой показал Ее осуществившейся. Ибо осуществление в этом Завете проречений того заставило поверить в Истину, и завершением богословия явилось богодействие»[200].
Далее в главе 3 мы можем узнать о воплощении Христа и значении этого события следующее:
«Безмернейшее же человеколюбие (схолия прп. Максима: «О вочеловечивании, — что Он совершил его человеколюбиво»[201]) богоначальной Благости благоподобно не прекратило действие Своего о нас промысла, но, безгрешно став ипостасным причастником всего свойственного нам и соединив наше смирение с совершенно неслитным и неповреждаемым собственным свойством, даровало нам как единородным приобщение к Нему и сделало нас причастниками собственных красот»[202].
Из этих слов невозможно вывести лишь относительное, «релативное» значение воплощения!
Следующий «коренной момент, противополагающий понимание Максима ареопагитическому» — это, согласно Живову, «ориентированность на конечное преображение мира (эсхатологизм)». Об этом моменте автор говорит, что он
«в толковании Пс.-Дионисия полностью отсутствует — поскольку для него противостояние ноэтического и вещественного непреодолимо, соотношение их не терпит никакого изменения; отсюда осуществляемое в литургии возведение «от чувственных образов к божественным» так же не предполагает никакой динамики, как не предполагает ее сама сфера поэтических сущностей (ср.: DN X, 3:137D-940А)»[203].
Обращение к указанному Виктором Марковичем тексту в очередной раз заставляет усомниться, по исправным ли источникам он ссудит о св. Дионисии. Можно ли сказать, что для св. Дионисия «противостояние ноэтического и вещественного непреодолимо» и «осуществляемое в литургии возведение «от чувственных образов к божественным» лишено динамики, если в § 3 главы 10 «О божественных именах» св. Дионисий говорит, что
«ограниченные здесь временем, мы причастимся вечности, когда дойдем до нетленного и неизменного века»[204].
А в § 12 главы 4 книги «О церковной иерархи» св. отец учит:
«Ведь если наш божественный жертвенник — Иисус, то богоначальное освящение божественных умов, при котором, согласно Речению, освещаемые и таинственно всесожигаемые, мы имеем доступ к тому, чтобы надмирными очами увидеть Сам божественный Жертвенник, на Котором совершаемое совершается и освящается, самим Божественным Миром совершаемое»[205].
Это ли пример того, что соотношение ноэтического и вещественного «не терпит никакого изменения»?!
Но еще более несправедлив и глух к учению св. Дионисия Ареопагита автор в отношении понимания св. Дионисием обожения. У «Пс.-Дионисия», по мнению Живова, обожение
«всегда опосредовано и условно. Оно сообщается человеку в соответствии с тем, какое место он занимает в земной (церковной) иерархи (ср.: EN III, 3, 14:445А); на всем пути от верхних чинов иерархии небесной до низших чинов иерархии церковной обожение постепенно теряет в своей силе и реальности (это согласуется с неоплатонической концепцией...)»[206].
Во-первых, относительно постепенной потери иерархией церковной способности подавать обожение, утрату от одной степени к другой силы и реальности его следует сказать словами св. Дионисия:
«вся эта ныне воспеваемая нами иерархия имеет единую и одну и ту же во всех иерархических делах силу»[207].
Во-вторых, процитируем то место из св. Дионисия Ареопагита, на которое ссылается Живов:
«Причастившись же и преподав богоначальное приобщение, иерарх заканчивает служение в священном благодарении со всеми священно наполняющими церковь. Преподание другим предваряется[208] ведь причастием самого иерарха, а его причащение тайн — таинственным их разделением. Ибо соборное (καθολικη) благоустроение и порядок божественного таковы, что первым в причастии и исполнении того, что через него будет от Бога даровано другим, должен стать священный предводитель и уже потом он может передать это и другим. И посему те, кто дерзновенно ограничивается[209] преподаванием боговдохновенного прежде, чем обрели соответствующие ему образ жизни и навыки, совершенно чужды священного законоположения. Ведь как, в случае солнечных лучей, тончайшие и прозрачнейшие сущности, первыми исполняясь вливающегося в них сияния, солнцеобразно пересылают по всему превосходящий их свет в то, что находится за ними, так и во всем божественном: не должен сметь руководствовать другими тот, кто не стал боговиднейшим по всем своим навыкам и не был засвидетельствован как правящий по божественному вдохновению и рассуждению»[210].
Обвинить за эти слова св. Дионисия в том, в чем обвиняет его Живов, значит вовсе не понимать действительного значения иерархии в Церкви: ни в смысле совершения таинств, ни в исполнении учительского служения. Увидеть в этих словах «неоплатонизм» можно только принципиально желая сделать Церковь сборищем харизматиков-беспоповцев.
После того, как мы привели тексты св. Дионисия Ареопагита, опровергающие предвзятую и искажающую его учение интерпретацию В.М. Живова, нам не остается другого как сказать, что мнение последнего, будто по св. Дионисию «непосредственное соединение с Богом остается полностью недоступным», и что «поэтому и преложение Даров оказывается у Ареопагита символическим действием, а принятие причастия — символом ноэтического соединения»[211], есть собственное, ни на чем реально не основанное измышление автора, являющееся плодом исключительного по недобросовестности подхода к исследуемым произведениям.
Но нам необходимо понять цель, ради которой Виктор Маркович пошел на фальсификацию и поставил под удар свою репутацию (независимо от того, заведомо недобросовестен, иди просто слеп из-за увлечения целью был автор)[212]. Если иметь в виду, что работа Живова посвящена византийской теории образа, то будет логично предположить наличие в сочинениях св. Дионисия Ареопагита некоего совершенно неприемлемого, для Живова, учения об образе (и, очевидно, символе). Этим, кстати, легко объясняется и тот странный способ, которым Живов приходит к обнаружению «противоречий» между учениями св. Дионисия с сочинением прп. Максима, где тот сам говорит, что не будет повторять того, что уже сказано «святым и истинно благословенным Дионисием в сочинении «О церковной иерархии», когда мы все имеем перед глазами комментарий к текстам св. Дионисия, освященный именем прп. Максима? Но Виктор Маркович даже не упоминает о существовании комментария. Не потому ли, что и в самом комментарии содержится нечто, Живовым отвергаемое? А ведь и сочинения св. Дионисия (и, в частности, «О церковной иерархии»), и комментарий к ним неоднократно напрямую обращаются к искомому Живовым сопоставлению понимания образа и символа в литургии и иконопочитании[213]. Куда как проще было бы сравнить текст и комментарий к нему, и найти противоречия и то, как прп. Максим «преодолевает» неоплатонизм «Пс.-Дионисия». Но Живов избирает обходной путь. Мы последуем за автором, но оговорим, что и прямой, короткий и ясный путь будет нами непременно испытан.
Итак, в отличие от Ареопагитик, В.М. Живов находит у прп. Максима такое понимание образа и символа:
«Соотношение символа и символизируемого, образа и архетипа оказывается динамическим <...> Эта динамика имеет личный (частный) аспект — через символизирующее человек созерцает символизируемое (συμβολικη θεωρια — ср.: Amb. 47:1360С), — укорененный в самом характере символа. Как пишет Р. Боркерт, «образ есть в некотором смысле то, что он представляет, или, в обратной перспективе, обозначаемое присутствует в своем чувственном представлении». Но у динамизма символа есть и другой аспект: духовная реальность, изображаемая символом, является реальностью исторической, реальностью будущего Царства Небесного. Символ есть предварение и частичное осуществление этой грядущей реальности. И поскольку Церковь в своей жизни (движении) непрерывно приближает нас к этой реальности, постольку и содержимые Церковью символы осуществляют эту реальность все в большей степени. Именно этот исторический момент придает объективный характер и личному движению в созерцании от символа к символизируемому. Поэтому исторический динамизм символа — это в системе прп. Максима, основополагающая его черта: литургический образ — это образ, возвращающийся к первообразу (η εικων ανελθουσα προς το αρχετιπον — Amb. 7:1076ВС).
Образ возвращается к первообразу — очевидно, насколько богата содержанием эта концепция»[214].
Эта, как выражается Виктор Маркович, «концепция» действительно богата содержанием. Однако сей факт не является поводом к безграничному расширению содержания за счет отказа от ясности в вопросе о смысле, в котором употребляется слово «образ» у свв. отцов в том или ином случае. В частности, из вышеприведенных слов Живова читатель может вынести ложное представление, что данная «концепция» прямо относится прп. Максимом к символике богослужения, что речь идет о «литургических образах»[215]. Но это не так. Посему требует пояснения, о каком образе прп. Максим говорит как о возвращающемся к первообразу, о каком образе — как символизирующем это возвращение, и каков конкретно тот «некоторый смысл», в котором «обозначаемое присутствует в своем чувственном представлении».
Отчасти мысль прп. Максима Живовым понимается верно:
«Итак, цель, к которой стремится все тварное, внеположна этому тварному. Вместе с тем стремление к этой цели присуще человеку, всему тварному по самой природе, т.е. задано ему в самом акте творения <...> Каждый предмет (ноэтический или вещественный) обладает своим λογος'ом, и вся совокупность λογοι — как множество в единстве — содержится в Логосе, Слове Божием»[216].
Движение твари к своему нетварному первообразу — логосу, и всего творения — к Логосу и есть «возвращение образа к Первообразу». В процессе этого возвращения происходит проницание тварного мира нетварными энергиями — обожение. И начало и путь «возвращения образа к Первообразу» положены бытием воплощения Христа Бога. Возможно, что Виктору Марковичу следовало рассмотреть «механизм» процесса, как он описывается прп. Максимом, более подробно. Совершенно справедливо говоримое Живовым о человеке:
«Именно человек выступает медиатором спасения вселенной, именно через него все тварное приходит к своим логосам, к своим первообразам Эта космическая миссия обусловлена замыслом человека как микрокосма, тем, что человек есть, как показано в «Мистагогии», образ мира...»[217]
Однако Виктор Маркович оставляет без внимания, что человек, а точнее — душа человеческая есть, по прп. Максиму, то, что сотворено по образу Божию. И, прежде всего, к душе относятся слова прп. Максима о возвращении образа к Первообразу, о том, «как возвращается Образу то, что создано по образу, как почитается Первообраз, какова сила таинства нашего спасения и за кого принял смерть Христос»[218]. Необходимо учитывать, что, согласно прп. Максиму,
«человек есть и называется человеком главным образом по причине своей мыслящей и разумной души, в соответствии с которой и благодаря которой он есть образ и подобие Бога, Творца всего»[219].
Во 2-й Амбигве к Иоанну прп. Максим прямо указывает на то, что слова о возвращении образа к Первообразу нужно в первую очередь понимать как сказанные свт. Григорием Богословом, текст которого он комментирует, о сотворенной по образу Божию душе человека: .
«И об этом изрядно любомудрствует богоносный сей учитель: «Познаем некогда, насколько сами познаны, когда сие боговидное и божественное, то есть ум наш и наше слово, соединим со сродным ему, и когда образ взойдет к Первообразу, к Которому имеет стремление»[220].
Несколько далее прп. Максим пишет:
«...поскольку человек по благости создан Богом из души и тела, то данная ему словесная и умная душа, как существующая по образу Сотворившего ее, по своему желанию и сознательно изо всех сил крепко держится всецелой любви Божией, и приемлет и то, чтобы обожиться по подобию, а по внимательному же промышлению о нижестоящем и по заповеди, повелевающей любити ближняго якоже себе (Мф. 22; 23), разумно заботится о теле, чтобы через добродетели и его причислить и усвоить Богу как сораба, сама посредствуя, дабы Творец вселился в нем, неразделимо связал бы и его узами данного ей бессмертия да будет душа для тела тем, чем Бог является для души, и да покажется Единый Создатель всего занимающим, посредством человечества, во всем сущем соответствующее место...»[221].
Вместе с тем надо уточнить, что обожение человеческой природы во Христе также совершилось «через посредство разумной души, посредствующей между Божеством и телом, приявшее всецелую неизреченно и существенно присутствующую ипостась Бога Слова...»[222] Впрочем, очевидно, что сделанные уточнения вряд ли помогли бы увидеть Живову разницу между пониманием прп. Максимом (идущего здесь вослед за свт. Григорием Богословом, да и всей святоотеческой традицией) фразы «возвращение образа к Первообразу» и осмыслением преподобным литургических символических образов. У прп. Максима мы не найдем мысли, что символы в литургии восходят к первообразам и, тем паче, к Первообразу. Цель символов — не восходить, но — возводить к символизируемому, открывая тем, кому это позволено знать, смысл символов. В понимании природы и назначения литургического символа прп. Максим совершенно единомыслен со св. Дионисием. Приведем несколько примеров тому, обратившись к сочинениям св. Дионисия Ареопагита и к комментариям прп. Максима. Начиная свое изложение Божественной литургии св. Дионисий говорит:
«Сущностью нашей иерархии являются богопереданные Речения. Наиболее же почитаемыми Речениями мы называем те, которые были дарованы нам от наших богодухновенных священносовершителей в святописанных богословских сочинениях, а также и те, которые нашим наставникам были переданы теми же священными мужами при более невещественном руководстве, близком некоторым образом небесной иерархии, из ума в ум посредством слова — материального, конечно, однако и невещественного — минуя Писание. Для общего же священнодействия это передано богодухновенными иерархиями не в неприкровенных мыслях, но в священных символах»[223].
В двух схолиях к этому фрагменту читаем:
«Священносовершителями он называет апостолов, каковых он назвал и предводителями; «богословскими» же «записями» — книги Ветхого и Нового Заветов; «более» же «невещественным посвящением» — полученное апостолами от Духа знание мыслей Послания, каковое он назвал «телесным» словом; в посвящении в него и состоит научение Новому Завету; «близким» же «к небесной иерархии» он назвал происходящее у способного руководить человека воссияние Духа.
Смотри, что — посредством слова и что таинственное было передано посредством неписанного слова. «Передано» надо понимать в общепринятом смысле. «В священных» же «символах» он сказал, имея в виду следующее далее изложение таинств, которые и удостаивают возвышающего созерцания»[224].
Таким образом, таинственный и спасительный смысл литургии не созерцается в символах «неприкровенно». Объяснение этому мы находим в тексте далее:
«...люди божественные, бескорыстно любящие восхождение и обожение своих последователей, сами и передали нам, в согласии со священными установлениями с помощью доступных чувствам образов — сверхнебесное, посредством разнообразия и множества — свернутое, в человеческом — божественное, в материальном — невещественное, в свойственном нам — сверхсущественное, — в писанных и неписанных посвящениях не только из-за людей несвященных, которым недозволенно касаться даже символов, но и потому, как я сказал, что наша иерархия, соответственно нам самим в некотором роде символична, (схолия: «Иерархия, свойственная людям, символична и состоит из воспринимаемого чувствами, то есть мы встречаемся здесь не с самими обнаженными божественными вещами, но с совершаемым через посредство символов, как то «чаша благословления», как сказал апостол (1 Кор., 10, 16), хлеб, который мы преломляем (ср. Деян. 2, 42; 20, 7), и прочее»), и нуждается в том, что доступно чувствам, чтобы мы от этого восходили к более божественному, постигаемому умом. Смысл символов однако же открыт (схолия: «То есть понятен, как и то, на какие вещи и таинства они указывают») для людей божественных, совершаемых в священном, но в него не подобает вводить тех, кто еще совершенствуется...»[225].
Очевидно, что и для св. Дионисия и для прп. Максима символы далеко не тождественны символизируемому, они не являются тем, на что они указывают. Указание на обозначаемое и есть связь между символами и символизируемым. И только по какому-то недоразумению Виктор Маркович решил, будто здесь уместна аналогия между вещественным и ноэтическим в смысле вещи и нетварного ее логоса. Символ, по определению прп. Максима Исповедника, есть «изображение неизобразимого и форма бесформенного»[226]. В этом смысле и зажженная свеча есть символ ноэтического[227] и вещественный космос есть символическое отражение нетварного логоса, по которому он сотворен. Но только во втором случае уместно говорить о движении образа к первообразу и обожении творения в конце времен. Символы же как указания, как изобразительные знаки символизируемого будут просто упразднены, ибо в будущем веке человек не будет в них нуждаться.
Из данного определения символа видно, что оно никак не может быть применимо к иконам. Икона изображает изобразимое и является отражением формы изобразимого. Разница между символическим образом и иконой хорошо видна из следующего отрывка из сочинения «О церковной иерархии»:
«Сокровенные и превосходящие ум благоуханные красоты Божьи неприкосновенны и умопостигаемо являются лишь существам умственным, — желая создать в душах неискаженные относительно добродетели единовидные образы. Ведь если созерцают не поддающееся описанию хорошо уподобленное изображение (αγαλμα) (схолия: «Образ» (εικων) боговидной добродетели, эту умопостигаемую и благоуханную красоту, — значит, она сама таким образом изображает и придает себе вид — для наилучшего себе подражания»). И подобно тому, как — в случае воспринимаемых чувствами образов (αισθητων εικωνων) — если рисующий неуклонно взирает на первообразный вид (αρχετυπον ειδος), ни на что другое видимое (εισορα) не отвлекаясь, то он, если можно так выразиться, создает изображаемое таким, каково оно есть, и показывает истину в уподоблении (το αληθες εν τω ομοιωματι) и первообраз в образе (το αρχετυπον εν τη εικονι) (схолия: «если образ не искажает первообраз и полностью ему подобен, то по существу, как он говорит, отличен. Ибо один бездушен, а другой одушевлен; один настоящее дышащее живое существо, а другое — произведение живописца из воска и красок. Поскольку, значит, в этом наблюдается разница, тождество обеих и подобие суть вещи разные»), при том, что одно отличается от другого по существу»[228].
Подлинное уподобление сверхчувственному — сверхчувственно, и символы, изображающие сверхчувственное, оказываются в конце концов отброшены. Но подобие иконы первообразу есть подобие чувственного образа чувственно воспринимаемому первообразу.
В другом месте св. Дионисий упоминает икону Христа в связи с Евхаристией. И мы видим, что икона служит изображением истинного воплощения Бога, подтверждающим неложность и нашего соединения с Ним: «
Ибо нам подобает, если мы желаем приобщения к Нему, взирать на Его божественную жизнь во плоти и путем уподобления ей священной божественностью восходить к боговидному и непостыдному состоянию. Ибо тогда нам будет гармонически даровано приобщение к подобному.
Иерарх являет это священно исполняющим, делая видимыми покровенные Дары и разделяя их единство на множество, благодаря же предельному единству разделяемого с тем, с чем оно оказывается, делая их причастными причаствующих. Ведь в них он доступным для чувств образом описывает, выводя из свойственной божественному невидимости в видимость (схолия: «О Господе нашем Иисусе Христе, которого он назвал и «нашей умопостигаемой жизнью», он говорит это не символически. «Совершенному» же сказано потому, что Он воспринял и разумную душу, и земное тело. И хорошо он сказал «неслиянному вочеловечению», ибо Он остался Богом, видимый как человек и сохраняющий особенности каждой природы...»), как на иконах, Иисуса Христа, нашу умопостигаемую жизнь, благодаря совершенному и неслиянному ради нас вочеловечению человеколюбиво принявшему наш облик (схолия: «То есть восприняв свойственный нам вид, или же природу») и непреложно пришедшему из единства по природе к нашей делимости и благодаря этому благодетельному человеколюбию призывающему человеческий род к приобщению Себе и Своим благам, — если только мы соединимся с Ним божественнейшей жизнью, нашим по мере сил уподоблением Ему, и таким образом станем настоящими общниками Божьей истины и божественного (схолия: «Заметь, как мы становимся общниками божественного естества, соединяясь со Христом)»[229].
Св. Дары, таким образом, как и иконы делают Христа видимым по плоти[230]. Однако только в этом общее между ними, ибо иконы не соединяют с Богом подобно тому, как это совершается посредством причастия. Хлеб и вино, будучи символами, непостижимым образом прелагаются в самое Тело и самую Кровь Христовы; и только о Св. Дарах можно в собственном смысле говорить, что они обладают энергиями Бога. Поэтому Св. Дарам подобает воздавать боголепное, а не, как в отношении икон, относительное поклонение.
Виктор Маркович совершенно справедливо утверждает, что «не почитать иконы — значит отрицать возможность обожения, проникновение божественных энергий в человеческую природу»[231]. Однако изображение обоженной плоти и указание на это обожение при помощи иконографических символов на иконах не означает, что «общность образа и архетипа в том, что образ обладает той же энергией, что и архетип»[232]. Неверно и что «это обладание стало возможным благодаря воплощению Христа, принятию им человеческого образа, перихоресису божественной и человеческой природ во Христе»[233]. Мысль об обожении человека, ставшем возможным благодаря воплощению Христа, отнесенная напрямую к иконам, делает икону, по аналогии с человеком, богом по благодати! И тогда упреки иконоборцев в «обожествлении икон» следовало бы признать не лишенными оснований. Но взгляды иконопочитателей отличаются от представлений о них В.М. Живова. «Иное дело, — говорит VII Вселенский Собор, — икона и иное дело первообраз, и свойств первообраза никогда никто из благоразумных людей не будет искать на иконе»[234]. Общим между иконой и первообразом свв. отцы почитали сходство изображения и изображаемого, сходство именно с внешностью, ибо ни душа, ни, тем паче, божество не присутствуют в изображении:
«Хотя кафолическая Церковь и изображает живописно Христа в человеческом образе, но она не отделяет плоти Его от соединившегося с нею Божества; напротив, на верует, что плоть обоготворена и исповедует ее единою с божеством <...> а не делает чрез это плоти Господней необоготворенную <...>. Как изображающий живописно человека не делает его чрез это бездушным, а напротив человек этот остается одухотворенным, и картина называется его портретом вследствие ее сходства, так и мы, делая икону Господа, плоть Господа исповедуем обоготворенною, и икону признаем не за что-либо другое, как за икону, представляющую подобие первообраза. Поэтому-то икона получает и самое имя Господа; чрез это только она находится и в общении с Ним; по тому же самому и досточтима и свята»[235].
Таким образом, внешнее сходство иконы с первообразом является основанием для отождествления их в именовании и есть то общее, что позволяет надеяться нам на ниспослание благодати от Первообраза, когда мы обращаемся к Нему посредством сходствующего с видом Его и потому единоименного рукотворного образа.
Попытаемся теперь понять, чем сочинение Живова могло послужить прот. Николаю Озолину в его рассуждениях. По всей видимости — ничем. Отец Николай счел, что связь между образом и Первообразом, утверждаемая Виктором Марковичем на основании учения прп. Максима о перихоресисе свойств двух природ во Христе, дает возможность корректно «разобраться», как он выражается, «во взаимоотношениях» во Христе двух образов. Но приходится признать, что о. Николай попросту не понял того, что говорит Живов. Этому, без сомнения, способствовала непомерная терминологическая путаница, являющаяся одним из характернейших свойств живовского текста. Как мы уже отмечали, Живов вовсе не вдается в объяснение различий (если только вообще сколько-нибудь отчетливо их сознает) между терминами «символ», «знак», «образ»; а также между понятиями «литургический символический образ», «иконографический символ», «вещь как символический образ нетварного логоса — первообраза», «образ Божий» в человеке (и во Иисусе-человеке), «икона» и т.д. «Разобраться во взаимоотношениях» всех этих «образов» с их «первообразами» Живов предлагает одним единственным универсальным путем: утверждением возможности образу «обладать» энергиями архетипа. При этом вопрос о том, как следует понимать в том или ином случае собственно со-образность образа первообразу, Виктором Марковичем даже не ставится. Он, кажется, и не замечает ни самой проблемы, ни того, что для своего разрешения она нуждается в ясном разграничении значений, в которых употребляется слово «образ» (как и другие упомянутые слова) применительно к каждому из названных конкретных случаев.
Протоирей Николай Озолин, не обращая на это внимания, интерпретирует утверждение Живова в смысле, якобы помогающем установить то, как должно пониматься взаимоотношение двух образов во Христе. Однако основанием для подобной интерпретации может служить разве что полная терминологическая неразбериха в тексте Живова. Возможно, что более близким для о. Николая следует признать не учение прп. Максима о перихоресисе и даже не живовскую интерпретацию его, но — неоплатоническое представление (выдаваемое Живовым за святоотеческое) о «мистико-познавательной» функции изображений. Но и сама по себе позиция, на которую встает о. Николай, не имеет оснований не только в работе Живова (это-то было бы и не страшно!), но, к сожалению, не находит достаточных оснований и в святоотеческом учении, находя зато себе прямые аналогии в учении прот. Сергия Булгакова. Стремление о. Николая во что бы то ни стало со-образовать (или, если угодно, «у-самоподобить») образы во Христе приводит уважаемого автора к странному и чуждому святоотеческой традиции пониманию учения о перихоресисе свойств двух природ во Христе. Прот. Николай, как мы помним, полагает, что взаимопроникновение энергий и свойств божественной и человеческой природ во Христе может достигать того, что правомочно становится утверждение:
«Будучи воспринятым в божественную ипостась, человечество Спасителя, став лично Его, преобразовалось через περιχωρησις энергий двух природ, и соделалось совершенно богоподобным, то есть подобным Ему Самому — оно стало так сказать до конца «самоподобно». По-видимому, именно это имеет в виду преподобный Максим Исповедник, говоря, что воплощенный Логос в Своей преображенной плоти «из Самого Себя явил Себя же, сделав Себя видимым». Именно потому, что Он сделал неописуемый прежде природный образ Отца (то есть Свою божественную ипостась) описуемым, лично став этим «самоподобным Образом», Господь и сказал Филиппу: «Кто меня увидел, увидел Отца» (Ин; 14, 9)»[236].
Мы уже приводили в начале данного параграфа текст из «Иконы и иконопочитания» о. Сергия Булгакова, где «перихоресис» понимается так же, то есть в смысле достижения полного взаимоуподобления двух образов во Христе, основанного на их изначальной сообразности (у о. Сергия речь идет о сообразности настолько тесной, что он говорит об одном, двояком, образе). В другом месте своего сочинения о. Сергий подчеркивает, что «Христос есть истинный Бог и истинный Человек в Богочеловеке, и икона Христова есть единый образ Бога»[237]. Это созвучно со следующей мыслью о. Николая о «каноне», который «наглядно показывает не по-несториански «просто человека», а в меру своих условных художественных возможностей — благодатное самоподобие Христа, Богочеловека, и этим позволяет зрительно и опытно познать, что Прообраз — Божественное Лицо Воплощенного Слова — и рукотворная Его икона обладают запечатленной одноименностью и физическим сходством ипостасной тождественностью»[238]. Этот текст мог бы быть продолжен (или предварен) о. Сергием:
«Истинный и полный постулат иконы Христовой состоит в том, чтобы дать не человеческий только образ Христа, так сказать, историческую картину — портрет, подобно изображениям великих людей и исторических деятелей, на что притязают мирские художники, верующие и неверующие, но и образ, в котором отразилось бы Божество Христово. В иконе изображается Богочеловек»[239].
Эту свою мысль о. Сергий развивает далее применительно уже не только к иконе Христа:
«Общее основание для иконы человека, которая была запрещена в Ветхом, но разрешена в Новом Завете, есть то, что образ Божий восстановлен в человеке Христом, в Своем человечестве явившем истинный человеческий образ. А потому и все человеческие образы, поскольку они не являются затемненными грехом, суть образы этого Образа, во всех них печатлеется тот же Лик, все иконы святых суть, в известном смысле, многоликая икона Христова, в них «воображается Христос» (Галл. 4, 19). Святые суть «боги», как на это и указывает св. Иоанн Дамаскин. Святые прославляются силой искупительной жертвы Христа и единением с Ним <...>. И так как нельзя отделять Христа от Его человечества, мы, почитая в святых друзей Божиих, поклоняемся и их иконам. Икона святого не есть ни фотография, ни вообще натуралистическое изображение, в котором ищется моментальное и внешне сходство. Она не есть даже художественный портрет, который стремится дать естественный лик, хотя и идеальный. Икона же изображает лик прославленного, духоносного святого, не как он был на земле, но в его прославленном, небесном сиянии...»[240].
Этот, общий о. Николаю Озолину и о. Сергию Булгакову, взгляд на икону как на то, что выявляет, «наглядно показывает», «позволяет зрительно и опытно познать» не «просто человека», а Богочеловека (то есть показать больше, чем можно изобразить) имеет своим основанием непонимание или игнорирование святоотеческого учения о том, что Христос по человечеству Своему есть природный образ родившей Его Матери. Забывая об этом, и о. Николай, и о. Сергий утверждают, по сути не перихоресис, не взаимопроникновение, но — изменение, превращение свойств одной природы в другую. Бог Слово — природный образ Отца — по учению Церкви является точным отражением природных свойств Отца, к числу которых относится, конечно, и неописуемость. Это свойство пребывает неизменным и по воплощении ипостаси Логоса. Ипостась Логоса описуема потому только, что Он есть природный Сын не только невидимого и неописуемого Отца, но и природный Сын видимой и описуемой Матери. И этот описуемый человеческий образ Бога дает возможность видеть Ипостась. Непонимание этого заставляет предположить, что Бог при воплощении потерял свойство неописуемости. Назвать это можно и «перихоресисом», но фактически речь идет об изменении свойства неописуемости на свою противоположность. Отсюда уже легко предположить, что именно так превратно понятый перихоресис позволил Сыну сказать: «Видевый Мене виде Отца» (Ин. 14, 9) и даже заключить к описуемости Отца[241]. И
постасное тождество Бога и человека во Христе познается не из «художественных средств» и не из прозрения сходства человеческого и божественного образов, но — из того, что мы веруем в воплощение Бога, веруем в то, что человек Иисус есть вочеловечившийся Бог; этого и достаточно, как говорит свт. Кирилл Александрийский, — «веровать в действительность воплощения»[242].
А из рассматривавшихся нами многочисленных попыток любыми путями установить сообразность двух образов во Христе, основанных на отрицании святоотеческого учения об ипостасном соединении как основании соединения образов, вытекают не мнимые «благодатные последствия», а реальное искажение учения Церкви об ипостаси и образе.
Заключение
В «Собеседованиях египетских подвижников» прп. Иоанна Кассиана Римлянина содержится повествование о ереси, которой оказались подвержены многие благочестивейшие пустынники — о ереси антропоморфитов. Напомним, что оным еретикам «казалось противным учению Св. Писания — отвергать, что Всемогущий Бог имеет образ, подобный человеческому образу, поелику ясно свидетельствуется, что Адам сотворен по образу Его»[243].
Уместно ли в контексте нашего разговора воспоминание о давней ереси? Нам представляется, что вполне уместно. Ибо совершенно непонятно, как при утверждении во Христе одного образа или того или иного способа со-образности человеческого и божественного образов (при постоянном подчеркивании, что «по образу Божию» сотворена не только разумная душа, но и телесный состав человека) возможно избежать вывода, который сделали антропоморфиты.
Когда Владимир Николаевич Лосский указывал прот. Сергию Булгакову, что «сообразность человека Божеству, если ее понимать как созданность человека по образу Божию, не то же, что «сообразность между Божеством и человечеством»[244], он не сказал, в чем же состоит принципиальное отличие первого утверждения от второго. Понятно, что Лосскому претили выводы Булгакова, и он хорошо сознавал явную опасность антропоморфитства, заключающуюся во втором утверждении. Но опасность эта реальна в том только случае, если сообразность между Божеством и человечеством понимать в контексте свойственного и Лосскому и Булгакову (как и большинству из упомянутых нами в данной статье авторов) представления о творении по образу Божию всего человека, включая его тело. Однако если мы, в согласии со свв. отцами, станем относить творение по образу Божию только к разумной душе человека, то нам не придется пытаться противопоставлять оба названных утверждения, преодолевая опасность еретических выводов путем отказа от правил логики и языка. Ведь очевидно, что эти утверждения эквивалентны! Однако пока мы находимся в границах святоотеческого понимания образа Божия в человеке, второе утверждение не содержит никакого неправославного смысла. Если же встать на точку зрения Лосского и Булгакова, то антропоморфитские выводы должны последовать с необходимостью. Отец Сергий и делает эти выводы, нисколько не смущаясь их несогласием с учением Церкви. В.Н Лосский отказывался их делать, предпочитая быть лучше непоследовательным, нежели неправославным. Однако ошибочность исходного представления не могла не отразиться на взглядах Лосского. И отразилась — в учении об одном образе во Христе или со-образности человеческого и божественного образов. Неприятие же святоотеческого учения об ипостаси и ипостасном соединении привело ко вполне антропоморфитскому пониманию утверждения иконопочитателей, что икона Христа есть икона ипостаси Бога Слова. Полагать во Христе один образ (μορφη) и признать его описуемым, или полагать со-образность двух образов, так что человеческий образ (μορφη) Христа, образ (μορφη) плоти .его оказывается со-образным образу (μορφη) божественному, — это и значит исповедовать новую версию антропо-морфитства. Прп. Иоанн так описывает причину возникновения ереси: «Это заблуждение <...> под предлогом следующего свидетельства: сотворим человека по образу Нашему и подобию, по неискусству или невежеству привилась к душам тех, которые никогда не были осквернены языческим суеверием, так что ересь, называемая (ересью) антропоморфитов, произошла по поводу этого превратного толкования, по которому с упорным извращением настаивают, что безмерное и простое существо Божие сложилось с нашими чертами в образе человеческом»[245]. Родство взглядов антропоморфитов египетской пустыни с разбиравшимися выше взглядами слишком бросается в глаза. Не так и важно, что, разумеется, современные антропоморфиты говорят не о «сложении существа Божия» с нашими чертами, но о перихоресисе. Главное — умудриться «наглядно показать» и «зрительно и опытно познать» на иконе — «Образ Бога невидимого», уверяясь и уверяя других, что к этому есть и «художественные возможности». И тогда отношение образа иконного, который есть подражание внешнему виду первообраза, оказывается отношением образа человеческого с первообразом как Образом Бога Отца, и в чертах видимого образа пытаются разглядеть черты невидимого.
Но хотелось бы заметить, что представление о божественном образе Христа как о прообразе человеческого образа хоть и выглядит «православно», однако противоречит словам прп. Максима (на основании учения которого якобы и «разбираются во взаимоотношениях» образов новые антропоморфиты), учащего, что человечество Христа было создано и пребывает в соответствии с собственным логосом, как первообразом:
«...прежде ни коим образом и ни в каком смысле природы или ипостаси, в которых все вообще сущее созерцается, естество не принималось за единое с Богом, ныне же оно восприняло единство с Ним по ипостаси посредством несказанного единения, неизменно сохраняя собственный логос сущности отличным по отношению к божественной сущности... «[246].
Непонимание, что ипостась Христа есть ипостась сложная, и что описуем природный человеческий образ (μορφη) ипостаси Христа, который есть природный образ (εικων) Его Матери, соединенный с божественным образом (неописуемым) не со-образностью, но — ипостасным соединением, делает из иконопочитателей — иконогностов (познавателей образа Божия)[247] и позволяет говорить о возрождении антропоморфитства в виде изысканно-благочестивой эстетической его редакции.
Напоследок позволим себе вспомнить еще один фрагмент повествования прп. Иоанна об антропоморфитах, где рассказывается о том, как блаж. Пафнутий убеждал одного их пустынников-антропоморфитов («старца древней строгости в воздержании и в деятельной жизни, во всем совершенного»), авву Серапиона, отказаться от заблуждения:
«Блаж. Пафнутий, с большою ласкою приняв его, для утверждения веры <...> поставив на средину, при всех братиях стал спрашивать: кафолические церкви всего Востока как толкуют то, что говорится в книге Бытия: сотворим человека по образу и по подобию Нашему (Быт; 1, 26)? Когда он объяснил, что все начальники церквей понимают образ Божий и подобие не в простом буквальном, а в духовном смысле, обильною речью и многими свидетельствами Св. Писания доказывал, что к неизмеримому величию неприложимо что-либо такое, что может быть изображено в человеческом составе и подобии, потому что Бог имеет бестелесную, несложную, простую природу, которую нельзя как глазами видеть, так и умом объять; то наконец старец, тронувшись многими и сильными доказательствами ученого мужа, склонился к вере кафолическому преданию. Когда беспредельная радость наполнила авву Пафнутия и как всех по случаю этого согласия его, именно, что такому древнему мужу, совершенному в стольких добродетелях, погрешающему по одной неучености и сельской простоте, Бог не попустил до конца уклоняться от стези правой веры, и для возблагодарения вставши, вместе изливали молитвы Господу, то старец в молитве смутился духом от того, что почувствовал, что из сердца его исчез тот образ божества антропоморфитов, который он привык представлять себе в молитве, так что вдруг горько заплакал, часто всхлипывая и повергшись на землю, с сильным воплем восклицал: «О, несчастный я! Отняли у меня Бога моего; кого теперь держаться не имею, или кому плакаться и молиться уже не знаю»[248].
Нечто подобное этой реакции можно ожидать и сегодня от современных «познавателей образа Божия», то есть иконогностов-антропоморфитов. Они так же могут быть характеризованы как глубоко и искренне верующие люди, ревнующие о Православии. Поэтому нам очень понятно, что для них отказ от их взглядов равносилен отказу от Бога и Церкви Его. Однако, хотя они и бывают иногда поразительно глухи к ясному святоотеческому учению, о них невозможно все-таки сказать, чтобы это были люди, «погрешающие по одной неучености и сельской простоте». Посему им стоит сугубо задуматься над сказанным у прп. Иоанна Кассиана Римлянина о «тяжком заблуждении аввы Серапиона», что «он по неведению не только совершенно погубил столько трудов, которые похвально совершал в этой пустыне 50 лет, но и подвергся опасности вечной смерти»[249].
Надеемся, что данная статья послужит нашим оппонентам поводом к тому, чтобы им еще раз внимательно и непредвзято проследить генеалогию собственной мысли в отношении понимания христологических оснований иконопочитания.
[1] См. статью «Символический реализм и язык иконы».
[2] Некоторые тексты, цитированные в работе об Успенском, мы сочли необходимым привлечь вновь, чтобы наше исследование было проведено возможно более подробно и тщательно.
[3] Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. Изд-во Западно-Европейского экзархата. Московский патриархат. Б/г. С.92-94.
[4] В доказательство напомним о применении ко Св. Дарам слова «символ» в сочинении св. Дионисия Ареопагита «О церковной иерархии», где св. Дионисий говорит о Св. Дарах как «чтимых символах (Тела и Крови — прим. Прп. Максима Исповедника), посредством которых Христос обозначается и приобщается» (См.: Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. СПб., 2002. С. 631). Не думаем, что применительно ко Св. Дарам употребление слова «образ» и в этом случае было бы совершенно корректно терминологически, однако взаимопонимание могло бы быть достигнуто.
[5] Успенский Л. А. Указ. соч. С. 94-97.
[6] Там же. С. 114.
[7] Лосский В. Н. Богословие и Боговидение. М., 2000. С. 289-290.
[8] Там же. С. 290.
[9] Там же. С. 290-292.
[10] Там же. С. 292-293.
[11] Там же. С. 293.
[12] Там же. С. 293-294.
[13] Там же. С. 294-295.
[14] Там же. С. 295.
[15] Там же. С. 296-297.
[16] Там же. С. 297.
[17] Там же. С. 298.
[18] Там же. С. 299-300.
[19] Там же. С. 302.
[20] Свт. Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Собрание творений в 2-х томах. Репринтное издание. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. Т. 1. С. 455.
[21] Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. М., 1911. Т. 3. С. 52.
[22] Там же. С. 51-52.
[23] Там же. С. 56.
[24] Там же. С. 52-54.
[25] Лосский В. Н. Богословие и Боговидение. С. 294.
[26] Там же. С. 295.
[27] В очередной раз подчеркнем, что наше исследование ограничено рамками святоотеческого учения. Нас интересует только соответствие или несоответствие разбираемых учений — учению Церкви. Поэтому и взгляды Лосского сами по себе, вне интересующего нас отношения, рассматриваться нами не будут.
[28] Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. В 4-х т. М., 1993. Т. 3. С. 31.
[29] Свт. Григорий Нисский. Опровержение Евномия. Краснодар, 2004. Т. 1. С. 234.
[30] Свт. Григорий Нисский. Опровержение Евномия. Краснодар, 2004. Т. 2. С. 319-320.
[31] Свт. Григорий Нисский. Опровержение Евномия. Т. 1. С. 416.
[32] Там же. С. 426.
[33] Там же. С. 428.
[34] Там же. С. 428.
[35] Там же. С. 426.
[36] Там же. С. 322.
[37] Свт. Григорий Нисский. Опровержение Евномия. Т. 2. С. 386.
[38] Свт. Григорий Нисский. Опровержение Евномия. Т. 1. С. 309.
[39] Там же. С. 430.
[40] Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. М., 1911. Т. 3. С. 56.
[41] Лосский В. Н. Богословие и Боговидение. С. 295.
[42] Там же. С. 295-296.
[43] Там же. С. 296.
[44] Там же. С. 296-297.
[45] Вообще же примеры обращения к понятию «ипостасное соединение» в писаниях свв. отцов бесчисленны. Это понятие неоднократно встречается и в текстах Деяний Вселенских Соборов. И нужно сказать, что употребляется названное словосочетание совсем не «мимоходом». См., например: Деяния Вселенских Соборов. СПб., 1996: Т. 1. С. 449; Т.3. С. 48, 445; Т.4. С. 148, 221, 574.
[46] Здесь нам хотелось бы указать, что перевод греческого слова θετικη (от τιθημι — класть, полагать), сделанный А. И. Сидоровым на основании понимания им смысла высказывания прп. Анастасия как «обозначающего, скорее всего, несущественное соединение» не кажется нам самым удачным. Речь у прп. Анастасия, по-видимому, идет о том, что соединять предметы можно согласно полаганию их как однородных, складыванию в нечто, что может рассматриваться как единство. Посему нам думается, что правильнее будет по-русски назвать этот вид соединения «складывательным», нежели «приписываемым».
[47] Прп. Анастасий Синаит. Избранные творения. М., 2003. С. 240-241. Прп. Анастасий, как видим, вовсе не связывает представление о предсуществовании человеческой природы Христа с употреблением термина «ипостасное единство».
[48] Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Христологические и полемические трактаты. Слова на Богородичные праздники. М., 1997. С. 87-88.
[49] Лосский В. Н. Богословие и Боговидение. С.299.
[50] Прп. Анастасий Синаит. Избранные творения. С. 225-226.
[51] Там же. С. 228.
[52] Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Христологические и полемические трактаты. С. 84-85.
[53] Там же. С. 90-91.
[54] Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. М., 2002. С. 90.
[55] Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Христологические и полемические трактаты. С. 86.
[56] Деяния Вселенских Соборов. Т. 4. С. 537.
[57] Прп. Иоанн Дамаскин в цитированном нами «Послании к яковиту» очень точно определяет терминологическое различие между ипостасью и природой. (Если это «плохо сформулировано», то что же тогда «хорошая формулировка»?): «Ипостась или неделимое существо природы есть природа, но не только природа, а вместе с частными свойствами, тогда как природа не есть ипостась или неделимое существо» (Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Христологические и полемические трактаты. С. 170).
[58] Деяния Вселенских Соборов. Т. 4. С. 537.
[59] Там же.
[60] Прп. Анастасий Синаит. Избранные творения. С. 262-263.
[61] Там же. С. 241.
[62] Лосский В. Н. Богословие и Боговидение. С. 302.
[63] Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Мистическое богословие. Киев, 1991. С. 169.
[64] Там же. С. 171.
[65] Весьма интересную попытку дать систематическое описание святоотеческих взглядов на проблему образа Божия в человеке представляет собой труд архим. Киприана (Керна) «Антропология св. Григория Паламы» (Париж: YMCA-Press, 1950; репринт: М.: Паломник, 1996). Однако он может быть признан полезным скорее как справочник и указатель к святоотеческим текстам, ибо не свободен от определенной тенденциозности в интерпретации источников. Кроме того, книга грешит некоторыми важными неточностями, которые заставляют рекомендовать читателю непременно сверять сказанное со святоотеческими текстами. Например, во фрагменте, посвященном св. Иустину Философу, архим. Киприан так характеризует творчество исследуемого автора: «Тема о человеке занимала Иустина Философа, и в своих произведениях он часто говорит об этом. Не следует, впрочем, у него искать готовых решений и ясных определений. Их мы не будем иметь и у многих позднейших писателей. Терминология его не четка и порою двусмысленна» (Указ. соч. С. 88). Но спросим, откуда бы взяться четкости и недвусмысленности, если о. Киприан не различая приписывает св. Иустину как его собственные взгляды, так и, хотя и его же, но исповедовавшиеся им до обращения в христианство? «Неопределенность и сбивчивость» (Указ. соч. С. 88) характеризуют, таким образом, не систему св. Иустина, а изложение ее автором, смешавшим мнения святого и мнения, от которых он отрекается! Надеемся, что читателю не составит труда сравнить текст архим. Киприана с «Диалогом с Трифоном иудеем» и самому убедиться, что все «платонические» идеи были высказаны Иустином во время беседы с христианином-старцем, под впечатлением от слов которого Иустин, философ-платоник, стал истинным Философом.
[66] Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. С. 170.
[67] Деяния Вселенских Соборов. СПб., 1996. Т. 1. С. 47-48.
[68] Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. С. 169.
[69] Творения святого Григория Нисского. . М., 1861. Ч. 1. С. 139—140
[70] Там же. С. 137-138.
[71] Там же. С. 139.
[72] Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. С. 170.
[73] Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский. 150 глав, посвященных вопросам естественнонаучным, богословским, нравственным и относящимся к духовному деланию, а также предназначенных к очищению от варлаамитской пагубы (главы 1-63) // Богословские труды. М., 2003. № 38. С. 47-48.
[74] Также и в гомилии 6 свт. Григорий пишет о человеке, что «особая воля была проявлена относительно него, и рукою Божиею и по образу Божию он был создан так, что не все он имел от этой материи и согласно чувственному миру, как все иные живые существа, но таковым имел только тело, а душу имел бы от премирного (элемента), лучше же сказать, — от Самого Бога, чрез неизреченное вдуновение, — как нечто великое и чудесное, и все превосходящее, и все надзирающее, и над всем начальствующее, и ведущее Бога вместе, конечно, являющее его; одним словом, как совершенное дело всепревосходящей премудрости Художника» (Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский. Беседы. В трех томах. М., 1994. Т. 1. С. 70). Владимир Николаевич ссылается на еще один текст свт. Григория Паламы, где прямо сказано, что душа и тело «вместе были созданы по образу Божию». Однако он сам отмечает, что произведение, на которое он ссылается, не достоверно принадлежит перу святителя Григория, а только ему приписывается. Сравнение с бесспорно принадлежащими Ста пятьюдесятью главами заставляет предположить или неточность перевода Лосского, или то, что текст не принадлежит свт. Григория, или что святитель сам себе противоречит. Проверить первое мы не можем за недоступностью для нас греческого текста, третье считаем маловероятным. Интересно, кстати, что ранее и сам Лосский в полемике с о. Сергием Булгаковым писал: «Главы 38 и 39 говорят о той же присущей человеческому духу жизни, сообщающей жизнь телу; именно в этом смысле, по мнению Паламы, человеческий дух более, чем ангельский, есть «по образу Божию», промышляя о теле, как бы промышляет о мире» (Богословие и Боговидение. С. 430-431). И Лосский вовсе не стремился отвергнуть сообразность «образу Божию» именно человеческого духа.
[75] Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. С. 169.
[76] Творения преподобного Макария Египетского. М., 2002. С. 593.
[77] Относительно сообразности человека Богу по телу полезно выслушать мнение свт. Иоанна об этом: «Но здесь опять восстают другие еретики, искажающие догматы Церкви, и говорят: «Вот Он говорит: по образу нашему», — и вследствие этого хотят называть Бога человекообразным. Но было бы крайне безумно — Того, Кто не имеет образа, ни вида, и Кто неизменен, низводить в человеческий образ, и бестелесному придавать черты и члены (телесные)» (Полное собрание творений свт. Иоанна Златоуста. В 12 т. М., 1993. Т. 4. С. 61-62).
[78] Св. Ириней Лионский. Творения. М., 1996. С. 455.
[79] Там же. С. 238.
[80] То, что душа человеческая сотворена именно по образу Божественной природы (в приведенных цитатах: «по самому существу Его», «по образу естества Сотворившего», «естество души <...> было создано Богом по образу Его») будет имеет важное значение в ходе дальнейшего рассуждения.
[81] Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. С. 172.
[82] Там же.
[83] Там же. С. 172-173.
[84] Творения святого Григория Нисского. М., 1861. Ч. 1. С. 144.
[85] Творения святого Григория Нисского. М., 1862. Ч. 4. С. 187.
[86] Там же. С. 184, 189.
[87] Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. С. 173-174.
[88] Дела не проясняют и высказывания, которыми автор старается определить взаимоотношение природы и ипостаси в человеке. Например, Лосский пишет: «После первородного греха человеческая природа разделяется, раздробляется, расторгается на множество индивидов. Человек представляется в двух аспектах: как индивидуальная природа он становится частью целого, одним из составных элементов вселенной, но как личность — он отнюдь не «часть»; он сам в себе все содержит. Природа есть содержание личности, личность есть существование природы» («Очерк мистического богословия Восточной Церкви. С. 175). Этот фрагмент, заставляющий вспомнить об экзистенциализме и Николае Бердяеве (напротив, даже о Церкви св. ап. Павел говорит: «Вы же есте тело Хритово, и уди от части» (1 Кор. 12, 27)) ничего не дает нам в смысле ответа на вопрос: природа или ипостась сотворены по образу Божию.
[89] Там же. С. 173.
[90] Творения святого Григория Нисского. М., 1862. Ч. 4. С. 188-189.
[91] Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Христологические и полемические трактаты. С. 86
[92] Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. С. 174.
[93] Лосский В. Н. Богословие и Боговидение. С. 303.
[94] Там же. С. 314.
[95] Там же. С. 315.
[96] Там же. С. 316-317.
[97] Там же. С. 317.
[98] Там же. С. 318.
[99] Там же. С. 318.
[100] Еще совсем недавно, в конце XIX века, ничего не подозревавший о своем «эллинизме» и «зависимости» от «пустословия Оригена» (выражение VII Вселенского Собора) святитель Феофан Затворник писал: «Человек создан по образу Божию; образ сей не в теле, а в душе, ибо Бог не телесен». И еще: «Образ и подобие Божие относятся не к телу, а к душе. Образ Божий состоит в естестве души, а подобие — в свободно приобретаемых ею богоподобных качествах. То, что душа наша невещественна, проста, духовна, бессмертна и разумно-свободна, — это относится к образу Божию, а когда она должным употреблением разума и свободы познает истину и станет искренне содержать ее, сердце же украсит всякими добродетелями, как то: кротостью, милосердием, воздержанием, миролюбием, терпением и тому подобным, — тогда эти качества составят в ней подобие Богу. Отпечатленное благодатью на образе подобие обнимает все наше внутреннее: и мысли, и расположения, и чувства — и соделывает богоподобными и ум, и волю, и сердце» (Святитель Феофан Затворник. Православие и наука. Руководственная книга изречений и поучений. М., 2005. С. 388-389).
[101] Нам известна еще одна конструкция, не менее логичная и стройная, также берущая своей исходной точкой то положение христологического учения, что во Христе, при двух природах, — только одна Ипостась Бога Слова. Эта конструкция оказала, на наш взгляд, определяющее влияние на воззрения Лосского о природе, ипостаси, образе, и отразилась на других аспектах его системы, прежде всего на экклесиологии и мариологии. Но об этом — позже.
[102] В работе «Догматическое богословие» Лосский обращается к образу как μορφη. Он пишет, ссылаясь на Флп. 2, 5-11: «В этом известном «кенотическом» тексте Послания к филиппийцам так определяется истощание Слова: будучи «образом Бога», μορφη θεου, то есть по самому положению Богом по природе, Христос обнажил, истощил, смирил Себя (εκανοσεν), принял в «образ раба» (μορφη δουλου) (Очерк мистического богословия Восточной Церкви. С. 320). Далее он пишет, что «только глаза верующего узнают образ Божий под образом раба и, распознавая в лице человеческом присутствие Лица божественного, научаются во всяком лице открывать тайну личности, созданной по образу Божию» (Там же. С. 322). Последние слова однозначно заставляют видеть «образ раба» сообразным «образу Божию» во Христе как образа — Первообразу, являемому в образе человеческом.
[103] Полное собрание творений свт. Иоанна Златоуста. В 12 т. М., 1993 Т. 2 Кн. 1. С. 378.
[104] «Освоение же Духа с душою есть не местное сближение (ибо бестелесное может ли приблизиться телесным образом?), но устранение страстей, которые привзошли в душу в последствии от привязанности ее к телу, и отдалили ее от сродства с Богом. Посему, кто очистился от срамоты, какую произвел в себе грехом, возвратился к естественной красоте, чрез очищение как бы возвратил древний вид царскому образу, тот единственно может приблизиться к Утешителю. И Он, как солнце, которым встречено чистое око, в Себе самом покажет тебе образ Невидимого. А в блаженном созерцании образа увидишь неизреченную красоту Первообраза» (Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. В 4 т. М., 1993. Т. 3. С. 266).
[105] Прп. Иоанн Дамаскин. Прп. Феодор Студит. О святых иконах и иконопочитании. Краснодар, 2006. С. 153.
[106] Этого, к слову сказать, совершенно не учла М.В.Васина, чьи слова: «а что существуют два образа, которые, как мы видим, в личности Христа как раз сочетаются, даже православные апологеты на тот момент не могли до конца объяснить» — мы цитировали в работе об Успенском. Марина Вадимовна полагает, что два образа во Христе «сочетаются» следующим способом: «есть единосущный образ, и есть личный образ, и ни тот, ни другой не отрицают друг друга, но относятся к единой, но двусоставной по естеству ипостаси Христа» (Цит. по рукописи). В свете сделанных нами пояснений о святоотеческом понимании того, как «сочетаются» два образа во Христе и в каком смысле нужно понимать сами термины εικων и μορφη, надеемся, ясно, что подобные поспешные «открытия» открывают не учение Церкви, а — невнимательное к нему отношение автора. Единосущному образу не следует ни противопоставлять личный, ни сочетать их таким странным и неудобовразумительным сочетанием. Человеческий образ (μορφη) Христа был, разумеется, личным образом Ипостаси Бога Слова. И это не отрицает того, что он был и единосущным образом Сына Божия по человечеству. Что, в свою очередь, не отрицает, что личный человеческий образ Христа был единосущным образом (εικων) родившей Его Матери. То же само следует сказать и о божественном образе Христа. Он есть личный образ Ипостаси Слова, разумеется, единосущный Ему по Божеству и являющийся единосущным образом Отца. О «сочетании» же человеческого и божественного образов лучше свт. Кирилла мы не скажем (см. ниже).
[107] Об этом именно и говорится в 82-м Правиле Трулльского Собора: «Посему, чтобы и в живописных произведениях представлялось взорам всех совершенное, определяем, чтобы на будущее время и на иконах начертывали вместо ветхого агнца образ Агнца, поднимающего грех мира, Христа Бога нашего в человеческом облике (κατα ανθρωπινον χαρακτηρα) (Деяния Вселенских Соборов. Т. 4. С. 293-294. Ср.: Протоиерей Георгий Флоровский. Восточные отцы IV-VIII веков. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999. С. 249).
[108] Напомним, что по Лосскому ипостась, личность «не должна определяться своей природой, но сама может определять природу, уподобляя ее своему Божественному Первообразу». Тем более эти слова Лосского относятся к пониманию им отношения «определяющего» — Ипостаси Бога Слова, и «определяемого» — не имеющей человеческой ипостаси природы Христа.
[109] Деяния Вселенских Соборов. Т. 1. С. 25.
[110] Там же. С. 26-27.
[111] Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. М., 1993. Т. 3. С. 45. На этот текст впоследствии ссылается IV Вселенский Собор. См.: Деяния Вселенских Соборов. Т. 3. С. 164.
[112] Иоанн Дамаскин. Три слова в защиту иконопочитания. СПб., 2001. С. 90.
[113] Преподобный Симеон Новый Богослов. Творения. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. Т. 2. С. 488.
[114] См.: Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. С. 53.
[115] Деяния Вселенских Соборов. Т. 4. С. 573-574.
[116] Там же. С. 574.
[117] Деяния Вселенских Соборов. Т. 1. С. 574.
[118] Необходимо помнить, что смерть человека — это разлучение души с телом. Хотя и бессметна душа, мы говорим, что человек — смертен. Потому что человек есть сложная, из души и тела составленная ипостась. Поскольку в системе Лосского «ипостась» означает иное, то его единомышленникам, чтобы быть последовательными, нужно говорить не о смерти человека, конкретной ипостаси (в святоотеческом смысле), а о расставании «личности» (как «несводимости») с частью свой природы (или — всеобщей всеединой природой). Таким образом, здесь не совсем корректно было бы назвать смерть смертью ипостаси (как разлучением души и тела, соединенных ипостасно), но только — разлучением ипостаси со своим телом. Однако, поскольку ипостась, по Лосскому, несводима к природе, то возникает вопрос, с какой же частью природы остается ипостась. Очевидно, с душой? Но тогда не менее очевидно, что человек как ипостась не умирает, а лишь терпит некоторый урон, утрату. И всерьез говорить о смерти человека (а человек как ипостась в святоотеческом смысле реально умирает, перестает существовать как ипостась) не приходится.
Равно и о спасительной смерти Христа говорить можно не как о чем-то призрачном, а как о реальной смерти Бога на кресте, только понимая ипостась в святоотеческом смысле. Потому что это в Нем как в человеке произошел разрыв, и тело Его лежало во гробе, а душа его спустилась во Ад. Если мы отвергаем термин «ипостасное соединение» как «неподходящий», то страшные и дарящие надежду слова свт. Иоанна Златоуста: «Бог умер за нас» — будут лишь пустой фразой, ничего реального не значащей. Однако говорит и свт. Кирилл Александрийский, проводя аналогию с ипостасным соединением в человеке души и тела: «Само Слово страдало, когда страдало тело Его, также как говорим о человеке, что страдает душа его, когда страдает только ее тело, потому что она, по своему естеству, не подвержена страданиям» (Деяния Вселенских Соборов. Т. 1. С. 153). Именно в сложную ипостась Сына вошла смерть, и Он добровольно принял разделение Себя как человека на душу и тело. «Ибо, — говорит свт. Кирилл, — по причине истинного соединения естеств для него стало собственностью тело, которое вкусило смерть»; потому и «провозглашаем смерть Бога воплотившегося» (Там же. С. 473). Именно по причине ипостасного соединения божества и человечества, принятие человеческой души и человеческого тела в свою ипостась как сложную и нераздельную, Бог Слово принимает их разлучение как Свою собственную смерть: «Он положил за нас собственную, а не чужую душу. Такое соединение необъяснимо <...> Душа и тело неразлучны с Божеством» (Там же. С. 475).
Но именно благодаря ипостасному соединению человечества с божеством, благодаря воипостасированию «зрака раба» в неразрывное единство Ипостаси Сына мы говорим, что Бог воскрес, а смерть Бога преодолена. Ибо, по слову прп. Иоанна Дамаскина, «хотя Христос и умер, как человек, и святая Его душа отделилась от непорочного тела, но божество осталось неразлучным от того и другого, то есть души и тела, и даже тогда одна ипостась не разделилась на две ипостаси» (Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. М.: «ИНДРИК», 2002. С. 284), и Бог, ипостасно соединенный со Своими душою и телом, вновь соединил их между собою и, преодолев смерть как их разделение, воскрес.
[119] Творения святого Григория Нисского. М., 1861. Ч. 1. С. 117-118. Ср.: Григорий Нисский. Об устроении человека. СПб., 1995. С. 36-37.
[120] Святитель Григорий Нисский. О блаженствах. М., 1997. С. 92-93.
[121] Деяния Вселенских Соборов. Т. 4. С. 150.
[122] Там же. С. 146.
[123] Там же. С. 147.
[124] Деяния Вселенских Соборов. Т. 1. С. 447-448.
[125] Там же. С. 448-449.
[126] Там же. С. 449.
[127] Хотя мы отдаем себе отчет в том, что к проблеме со-образности нам придется еще возвращаться, чтобы обсудить те варианты установления «сходства, без труда усматриваемого», которые были предложены единомышленникам Успенского и Лосского (а также и «предтечами» Парижского богословия — мыслителями Серебряного века).
[128] Творения преподобного Максима Исповедника. М., 1993. Кн. 1. С. 167.
[129] Диспут с Пирром: преподобный Максим Исповедник и христологические споры VII столетия. М., 2004. С. 199.
[130] См. об этом в книге Н.К. Гаврюшина «Русское богословие. Очерки и портреты», где автор, помимо указания на сам факт знакомства Лосского с идеями Карсавина, убедительно демонстрирует влияние взглядов последнего на значение проблемы «филиокве» как «корня» всех отличий Западной церкви от православия на Лосского. «Влияние Карсавина на молодого Лосского, — пишет Н.К. Гаврюшин, — в период между 1919 и 1922 годами можно считать определяющим. Карсавин способствовал выработке историософских, политических и нравственно-психологических установок своего одаренного студента, и именно он в самых общих чертах поставил пред ним ту научно-богословскую проблему, под которой В.Н. Лосский трудился до последних дней жизни» (Гаврюшин Н. К. Русское богословие. Очерки и портреты. Нижний Новгород, 2005. С. 313).
[131] Лосский В. Н. Богословие и Боговидение. С. 291.
[132] Там же. С. 296.
[133] Там же. С. 297.
[134] Карсавин Л. П. Сочинения. М., 1003. С. 468.
[135] Там же. С. 468.
[136] Карсавин делает совершенно логичный вывод из своей ложной посылки (неимения Христом человеческой личности): «Исповедовать учение Православной Церкви о том, что в Иисусе Христе нет особой человеческой личности и что Его совершенная человеческая природа является личною только по единению своему с Божественною Личностью или Ипостасью и потому есть личность Богочеловеческая, но в то же время утверждать, будто у всякого другого человека есть своя человеческая личность, — значит впадать в противоречие с самим собою, в ересь, то есть в ложь и гордыню» (Карсавин Л. П. Сочинения. С. 408).
[137] Лосский В. Н. Богословие и Боговидение. С. 299-300.
[138] Следует отметить, что словоупотребление Карсавина не всегда отличается строгостью, и поэтому мы будем вынуждены несколько унифицировать терминологию, что не повлечет за собою, надеемся, искажение мысли автора.
[139] Карсавин Л. П. Сочинения. С. 408-409.
[140] Там же. С. 409.
[141] Там же. С. 468.
[142] Только пренебрежение необходимостью вести рассуждение логически корректно не приводит Карсавина (и Лосского) к тому, чтобы в своем учении прямо воспроизвести упомянутые нами системы Платона, Упанишад, Махаяны, Каббалы и прочих вариантов гностического представления о цели жизни — возвращении и слиянии с Божеством в неразличимое единство.
[143] Карсавин Л. П. Сочинения. С. 468-470.
[144] Там же. С. 469.
[145] Там же.
[146] Там же. Странное представление, усвоенное, как мы видели, и В.Н. Лосским. Как только хотят сказать нечто, несогласное с учением Церкви, ясно выраженным в святоотеческом наследии, тут же представляют дело как проблему исключительно терминологическую. Видимо, в таком случае то, что на самом деле и не является ни чем иным, как дерзостью, уже кажется дерзновением, преобразующем мертвую букву в «духе». Возможно, конечно, что подобная дерзость и «очень плодотворна», но не для целей уразумения учения Церкви, а для того, чтобы выдать за него собственную конструкцию. Если дерзновенно придавать терминам, которые употреблялись в определенных и далеко не случайных значениях, «новый смысл», то изменится не терминология (она-то как раз останется соблазнительно идентичной), но самый смысл учения.
[147] Как не столь уж существенно, что в экклесиологии своей Лосский в отличие (а скорее — в развитие) от мысли Карсавина полагает «два аспекта» — христологический и пневматологический. Первому соответствует объединение (вос-соединение) человечества в единую природу — Тело Христово; второму — личное соединение с Божеством. «Дело, совершенное Христом, — говорит Владимир Николаевич, — относится к нашей природе, которая не отделена от Бога грехом. Новая природа, обновленная тварь появляется в мире, новое тело, чистое от всякого касания греха, свободное от всякой внешней необходимости, отделенное от нашего беззакония, от всякой чуждой воли драгоценной Кровью Христовой. Это — Церковь, чистая и непорочная среда, в которой мы достигаем единения с Богом; это также и наша природа, как внедренная в Церковь, как часть Тела Христова, в Которое мы входим крещением. Но если по своей природе мы — члены, части человечества Христова, то наши личности еще не дошли до соединения с Божеством. Искупление, очищение природы не дает еще всех необходимых условий обожения. Церковь уже является Телом Христовым, но она еще не есть «полнота наполняющего все во всем» (Евр. 1, 23). Дело Христа закончено, теперь должно совершиться дело Святого Духа» (Лосский В. Н.Очерк мистического богословия Восточной Церкви. С. 197). Без сомнения, Лев Платонович узнал бы здесь свою мысль о том, что Логос становится Телом Божиим — первым аспектом Церкви. И, возможно, не отказался бы признать «лицетворение», «обожение» — «делом Святого Духа».
[148] Карсавин Л. П. Сочинения. С. 467.
[149] Несостоятельность подобного понимания как слов св. Дионисия, так и слов прп. Иоанна подробно продемонстрирована нами в работе «Символический реализм и язык иконы».
[150] Евдокимов П. Н. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин, 2005. С. 196.
[151] Евдокимов П. Н. Православие. М., 2002. С. 57.
[152] Булгаков С. Н. Первообраз и образ. Сочинения в 2-х т. М.-СПб., 1999. Т. 2. С. 280-281.
[153] Лосский В. Н. Богословие и Боговидение. С. 458. Митрополит Сергий (Страгородский) выражается по этому поводу осторожнее: «Ипостась (самосознание, «я») Булгаков принципиально с духом не отождествляет, но полагает их в такой «неразрывной связи», что фактически там, где есть дух, есть и ипостась, и наоборот» (Указ Московской Патриархии преосвященному митрополиту Литовскому и Виленскому Елевферию // Архиепископ Серафим Соболев. Новое учение о Софии Премудрости Божией. Краснодар, 2006. Т. 1. .С. 383). И несколько далее: «В понятии «дух» он подчеркивает признак «ипостаси» и так переходит к отождествлению понятий «дух» и «ипостась». Отсюда догмат о том, что человечество во Христе не имело отдельной ипостаси (против Нестория), понимается Булгаковым в смысле отсутствия в человечестве Христовом человеческого духа, не только ипостаси, но и духовной природы» (Там же. С. 387).
[154] Булгаков С. Н. Агнец Божий. О богочеловечестве. М., 2000. Ч. 1. С. 167.
[155] Лосский В. Н. Богословие и Боговидение. С. 298-299.
[156] Булгаков С. Н. Труды о Троичности. М., 2001. С. 134-135.
[157] Фрагмент, исключенный нами из цитаты интересен в отношении указания на сходство мысли Лосского по вопросу о «единосущии» человеческой природы и представлении его о человечестве как одном многоипостасном существе не только с карсавинской, но и с булгаковской мыслью: «Если природу обозначить А, ее реальное ипостасное существование выразится в суммах (точнее, сгустках): (A+a), (A+b), (A+c) и т.д. Так как природа не всегда ενυποστατος, и ανυποστατος не существует, то можно сказать, что и род, или сама природа, существуют только в абстракции человеческой мысли, которая выделяет общее слагаемое из всех этих величин. При этом, существенно аристотелевском, понимании соотношения рода и вида, нет места единосущию, ομουσια, но лишь подобосущию, ομοιυσια, которое устанавливается абстрагирующей мыслью. Уже отсюда ясно, к каким трудностям ведет схема в проблемах антропологии и теологии. В первой она раздробляет единство человеческого рода на индивидуумы ατομα, упраздняя единство человеческого рода в Адаме древнем и новом, т.е. колеблет основы христологии и сотериологии. Во втором она приводит к тритеизму, т.е. к рассечению Св. Троицы на три ипостаси как индивидуумы, в которых существует природа Божества».
Мы, не имея возможности подробно остановиться на очевидном сходстве представлений названных мыслителей в этой области, все же рискуем предположить, что серьезное и непредвзятое сравнительное исследование их наследия сулит обнаружение большого еще количества интересных и многозначительных сходств, и окажется очень плодотворным. Повторим, что совсем не пытаемся закрывать глаза на различие в учениях Лосского, Карсавина и Булгакова. Но, кажется, настало время уделить внимание не только различиям.
[158] Булгаков С. Н. Труды о Троичности. С. 140-141. Менее Лосского связанный необходимостью соответствовать учению свв. Отцов, Булгаков не скрывает того, что и в триадологи своей они использовали столь же неподходящую обоим «оппонентам» схему различия природы и ипостаси: «Эту же самую схему различения сущности и ипостаси, как общего и частного, известную спецификацию, греческие отцы Церкви применяют к учению о божественных ипостасях во Св. Троице. Св. Василий учит: «Какое понятие приобрел ты в различии сущности и ипостаси в нас, перенеси оное в Божественные догматы и не погрешишь» (Письмо к Григорию брату (38)). «Сущность к ипостаси имеет такое же отношение, какое имеет общее к частному, ибо и каждый из нас и по общему понятию сущности причастен бытию, и по свойствам своим есть такой-то и такой-то именно человек. Также и в Боге понятие сущности есть общее. Ипостась же умопредставляется в отличительном свойстве отчества ли, сыновства, или «освещающей силы» (Письмо 214 (206) к Терентию Комиту)» (Булгаков С. Н. Труды о Троичности. С. 141)
[159] Однако и у Лосского «ипостась» есть то, что (или, если угодно, — кто) «замещается» в человеке Иисусе — во всем остальном кроме этого таком же «индивидууме», как и все другие люди. То есть мысль Булгакова, что «Логос для человеческой природы Христовой, можно сказать, просто и естественно заменил Собой тварную ипостась» не может быть принципиально неприемлема для Владимира Николаевича. Но это и есть главное, в чем понимание ипостаси Лосского и Булгакова отличаются от святоотеческого (Булгаков С. Н. Агнец Божий. С. 212-213).
[160] Булгаков С. Н. Труды о Троичности. С. 143.
[161] Булгаков С. Н. Агнец Божий. С. 31.
[162] Там же. С. 168.
[163] Цит по рукописи доклада прот. Николая Озолина «Об описуемой неописуемости», прочитанного на XIII Международных Рождественских чтениях, любезно предоставленной М. В. Васиной.
[164] Сохраняется и неясность, чего преображением в этом случае является икона: «славы» ли, как образа Божия, или «сообразности» образа (человеческого вида Христа) Первообразу (ипостаси Бога Слова).
[165] П. Н. Евдокимов, к слову, занимает по этому вопросу как бы среднюю позицию, говоря и об одном образе во Христе (как Л. А. Успенский и о. С. Булгаков), так и двух образах (как прот. Н. Озолин). Вместе с тем он «не забывает» указать и на возможность изображения «славы», то есть того, что на самом деле имеет отношение не к образу Ипостаси Спасителя, но к явлению энергий сущности Св. Троицы. Приведем показательный пример построений Евдокимова, демонстрирующий, насколько шатка и неопределенна бывает мысль ученого, когда он пытается преодолеть «несколько упрощенный», как ему кажется, взгляд свв. отцов: «Созерцание лицом к лицу в будущем веке будет, как учил святой Анастасий Синаит, созерцанием Лица (Личности) воплощенного Слова. Согласно с этим и основное утверждение отцов сводится к тому, что не Божественная и не человеческая природа, но Ипостась Христа бывает явлена нам на иконах. Поэтому почитание икон есть начало видения Восьмого Дня. Как учит Феодор Студит, образ всегда отличен от первообраза по своей сущности, но подобен ему по Ипостаси и по Имени.
Христос «есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари» (Кол. 1, 15). Однако даже первые защитники икон несколько упрощенно разделяли две природы, относя видимое к человеческой природе Христа, а невидимое — к Его Божественной Природе. Но образ не делится по природам, так как он восходит к единой Ипостаси в целом. Одна Ипостась в двух природах означает один Образ в двух проявлениях, видимом и невидимом. Божественное невидимо, но отражается в видимом человеческом. Икона Христа возможна, истинна и реальна, поскольку Его человеческий образ полностью соответствует невидимому образу по Божеству, — оба они составляют два аспекта одной единой Ипостаси-Образа. Как говорит святой Иоанн Дамаскин, энергии двух природ, тварной и нетварной, взаимно проникают друг друга. Благодаря ипостасному единству обоженная человеческая природа Христа участвует в божественной славе и являет нам Бога. Христологический перихорез — сменяющие друг друга выражения — говорит о том же и взаимном проникновении двух природ и проясняет тайну единого образа под двумя видами, так что образом Божества Христа является Его человечество; снова вспомним слова Христа: «Видевший Меня, видел Отца» (Ин. 14, 9), — не сказано Бога, но Отца, ибо Сын есть образ Отца и, благодаря этому, — выражение Троицы; таким образом, единая Ипостась имеет единый Образ-Икону под двумя видами: как ее видит Бог и как ее видит человек. В тропаре Преображения поется: «Показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху»; «там указывается, что видение предполагает дар преображенного зрения. Ученикам явился «образ Бога невидимого», единая Богочеловеческая реальность в Ипостаси воплощенного Слова; именно такое фаворское видение обусловливает догматическое обоснование иконы Христа и иконы вообще» (Евдокимов П. Н. Искусство иконы. Богословие красоты. С. 220-222).
[166] Живов Виктор Маркович. «Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа. . Ср.: Живов В.М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 15-39. «Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа. С. 1.
[167] Плотин. Пятая Эннеада. СПб., 2005. С. 212.
[168] Как сказано у св. патр. Никифора: «Определение же иконы, согласное с тем, как принято говорить у художников, таково: икона есть подобие первообраза, сходственно запечатлевающее в себе внешний вид изображаемого...» (Творения святого отца нашего Никифора, архиепископа Константинопольского. Минск, 2001. С. 400).
[169] Живов. Там же.
[170] Очевидно, Виктор Маркович знает об употреблении свв. отцами слова «архетип» в контексте иконопочитания что-либо такое, чего не знали ни св. патр. Никифор, ни прп. Феодор Студит. Последний говорит в III Опровержении нечто принципиально отличное от «мистико-познавательной» роли подобия образа первообразу, какой она видится Живову: «Конечно, справедливо то, что образ Христа находился в Нем как в первообразе и прежде, чем он был получен посредством искусства. Ведь то, что еще совсем не получило образа, и не есть человек, а какой-то недоносок, и, конечно, ничто не может быть названо первообразом, если не имеет на веществе изображения, с него перенесенного. Поэтому, коль скоро Христос признается имеющим значение первообраза, как и всякий другой человек, то совершенно необходимо признать, что он имеет и изображение, перенесенное с Его наружного вида и напечатленное на каком-либо веществе, дабы Он не перестал быть и человеком, если не будет видим и почитаем при посредстве представленного в изображении подобия» (Прп. Иоанн Дамаскин. Прп. Феодор Студит. О святых иконах и иконопочитании. С. 164-165).
[171] Еще одна, более современная, аналогия: «стоматологи рекомендуют».
[172] Ямвлих. О египетских мистериях. М., 1995. С. 57-58.
[173] Там же. С. 64-67.
[174] Там же. С. 70-71.
[175] Петров А. В. Феномен теургии. Взаимодействие языческой философии и религиозной практики в эллинистическо-римский период. СПб., 2003. С. 227.
[176] Прокл. Платоновская теология. СПб., 2001. С. 94.
[177] Петров А. В. Феномен теургии. С. 192.
[178] Прокл. Первоосновы теологии. Гимны. М.. 1993. С. 165.
[179] Деяния Вселенских Соборов. Т. 4. С. 430.
[180] Недавний печальный пример подобной магической веры в то, что икона обладает энергией архетипа — реакция некоторых верующих на кражу иконы в г. Курске: «Она же нас защищала! Без нее мы погибнем!» Защита и спасение от гибели, подаваемые Спасителем по молитвам Его Матери, к которой и должно прибегать в молитве, приписываются самой иконе. Разумеется, такая «честь», воздаваемая образу, уже не относится к первообразу: все упование молящегося обращено к энергиям, которыми обладает образ.
[181] Живов. Там же.
[182] Там же.
[183] Там же. Странно даже, что Живов как-то слишком осторожно заявляет о «по крайней мере одном примере такого развития», который ему известен из работы Р. Боркерта, где тот пишет: «обнаруживается исключительная согласованность словаря св. Германа, употребляемого в его догматических посланиях о св. иконах для обозначения отношения между иконами и из архетипами, с терминологией данного толкования литургии (в работе Боркерта «исследуется проблема авторства «Церковной истории» — толкование литургии VIII в.»), использованной для демонстрации связи между обрядами и обозначаемыми ими реальностями» (Там же). Не будучи знакомы с сочинением Р. Боркерта, мы воздержимся от оценки цитируемого Живовым пассажа. Однако заметим, что соотношение между пониманиями значения иконописного образа и значения символических литургических обрядов можно уразуметь и прямо из содержания посланий св. патр. Германа, а также из Деяний VII Вселенского Собора и большого количества святоотеческих текстов последующих эпох. Некоторые примеры уже приводились нами в статье об Успенском.
[184] Живов. Там же.
[185] Иоанн Дамаскин. Три слова в защиту иконопочитания. СПб., 2001. С. 36.
[186] Там же. С. 37.
[187] Там же.
[188] Там же.
[189] Там же. С. 61.
[190] Там же. С. 61-62.
[191] Там же. С. 62.
[192] Живов. Там же.
[193] Там же.
[194] Там же.
[195] Творения преподобного Максима Исповедника. Вопросоответы к Фалассию. М., 1994. Кн. 2. Ч. 1. С. 155.
[196] Живов. Там же.
[197] Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. С. 630-631.
[198] Столкнувшись с подобного рода недобросовестным цитированием, не знаешь, что и думать. Положим, что какой-нибудь негодяй снабдил уважаемого ученого неисправными текстами.
[199] Живов. Там же.
[200] Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. С. 615-617.
[201] Представляется, что совершенно правомочно относить все схолии к Ареопагитскому корпусу, независимо от того, кто их писал, к имени прп. Максима, так как даже не написанное его рукой было ему известно и им принято.
[202] Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. С. 637.
[203] Живов. Там же.
[204] Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. С. 521.
[205] Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. С. 665-667.
[206] Живов. Там же.
[207] Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. С. 571.
[208] Схолия: «Обычно говорится «предваряется», или же «предшествует», потому что подобает, чтобы первым воспринял дары священник и затем преподал таинства другим. Так что причастие священника предваряет причащение остальных, а причащение остальных предваряется приуготовлением таинственного разделения».
[209] Схолия прп. Максима: «То, что он говорит, таково: подобно тому, как если священник не причащается первым принесенного им, он не священен, так и дерзающий учить других, сами не делающие того, чему учат, не священны. Ибо следует делать то, чему учишь, согласно сказанному Господом: «Кто сотворит и научит, тот великим наречется» (Мф. 5, 15).
[210] Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. С. 643-645.
[211] Живов. Там же.
[212] Мы отдаем себе отчет в том, что тон, в котором мы пишем о сочинении В.М. Живова, может показаться кому-либо излишне резким. Тем более, что разбираемая работа написана довольно давно. Однако автор, насколько нам известно, не счел необходимым исправить фактические погрешности своего сочинения, ни дезавуировать метод «опоры» на тексты, осуществляемый в сочинении, который (как бы резко это не звучало) мы не можем квалифицировать иначе, нежели как недобросовестное цитирование.
[213] Может быть, здесь научная добросовестность автора позволила, правда, проигнорировать тексты, но не позволила просто взять и переврать пару цитат? Конечно, легче интерпретировать теорию, если полагать, что она присутствует в тексте лишь «опосредованно». Мы же надеемся показать, что непосредственно присутствующие в тексте Ареопагитик и в комментариях к ним сопоставления икон и символических образов литургии не могут быть интерпретированы в угодном Живову духе.
[214] Живов.Там же.
[215] Живов, кроме того, без всякого пояснения использует здесь термины «знак», «символ», «образ» как синонимы. Этим «концепция», конечно, «обогащается», но становится неопределенной и запутанной.
[216] Живов. Там же.
[217] Там же.
[218] Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. 1. С. 163.
[219] Там же. С. 167.
[220] Амбигвы к Иоанну. II.// Преподобный Максим Исповедник. О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия. .М., 2006. С. 65. Ср.: Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Собрание творений в 2-х томах. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1994. Т. 1. С. 402.
[221] Амбигвы к Иоанну II. Там же. С. 76
[222] Амбигвы к Иоанну XXXVIII, 5. Там же C. 296.
[2231] Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. С. 577.
[224] Там же.
[225] Там же. С. 579.
[226] Там же. С 53.
[227] См. об этом и в Послании св. патр. Германа к Фоме, епископу Клавдиопольскому: «Пусть не соблазняет кого-либо и то, что пред иконами святых мы делаем освещение и благовонное курение. Совершать это в честь святых придумано в символическом смысле; потому что они упокоение свое имеют во Христе и честь, оказываемая им, относится к Нему <...> Чувственные огни суть символы невещественного и божественного светодаяния, а ароматическое курение — символ чистейшего всецелого вдохновения и преисполнения Духа Святого» (Деяния Вселенских Соборов. Т. 4. С. 473).
[228] Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. С. 649. Перевод Г. Прохорова приводится нами с небольшими уточнениями, так как, оставаясь верным по смыслу, он не всегда выдерживает терминологическую строгость.
[229] Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. С. 641-643.
[230] Ср. у св. патр. Никифора: «Теперь необходимо задаться вопросом о том, каким становится это тело <Христово> после божественного священнослужения и освящения — описуемым или неописуемым? Нет такого сумасшедшего или безумца, который бы дерзнул назвать его неописуемым... Ибо каким образом может быть неописуемо то, что чувственно предлежит глазам человека, объемлется руками, взимается зубами и вкушается? Все это чем иным представляет и выказывает его, как не совершенно описуемым? Если же оно описуемо и это же свойство принадлежит и тому телу, которое вначале восприняло воплотившееся Слово, ибо это одинаковое отношение имеет и к тому, то, конечно, описуемо и оно (тело Слова)» (Творения святого отца нашего Никифора, архиепископа Константинопольского. С. 437).
[231] Живов. Там же.
[232] Там же.
[233] Там же.
[234] Деяния Вселенских Соборов. Т. 4. С. 535.
[235] Деяния Вселенских Соборов. Т. 4. С. 575.
[236] Прот. Николай Озолин. Об описуемой неописуемости. Цит. по указанной рукописи.
[237] Булгаков С. Н. Образ и первообраз. Т. 2. С. 297.
[238] Прот. Николай Озолин. Там же.
[239] Булгаков С. Н. Образ и первообраз. Т. 2. С. 285.
[240] Там же. С. 301-302.
[241] Мы уже имели случай рекомендовать прот. Николаю Озолину, прежде чем строить догадки относительно причин и истинного смысла слов Спасителя, справляться со святоотеческим мнением. Приведем еще ряд текстов, помогающих правильному пониманию данного места Евангелия. «Итак, один и тот же Иисус Христос, Само единородное слово Отца, сделавшись человеком, не перестало быть тем, чем было: и в человечестве осталось Оно Богом, и в образе раба Владыкой, и в уничижении нашем с полнотой божества, и в немощи плоти Господом сил, и в человеческой мере со всеми свойствами, ставящими Его выше всей твари <...>. Слово Божие, ставши человеком, было в то же время в образе Отца, как духовный, говорю, Его образ и как совершенно неизменяемое. Потому-то Оно, показывая нам, что и с плотью в Нем образ ипостаси Отца, сказало Филиппу: видевый Мене, виде и Отца» (Деян. Т. 1. с. 574-575). Это слова святителя Кирилла Александрийского, ясно показывающие, что Слово как образ Отца не утратило свойство неописуемости. Другая цитата из прп. Максима Исповедника: «Заметь, что бестелесное бесформенно. Так что, когда слышишь о сверхсущественном «во образе Божием существующий» (Фил. 2, 6), разумей., что Он не отличается от .самого Отца. Это ведь показывают и выражения «образ Бога невидимого» (Кол. 1, 15) и «Видевший Меня видел и Отца» (Ин, 14, 9) (Дионисий Ареопагит Сочинения Максим Исповедник Толкования, С.53). Еще текст — свт. Василия Великого: «Видевый мене виде Отца (Иоанн. 14, 9): видел не отпечатление, не образ, потому что Божие естество не допускает сложности, но благость воли, которая созерцается во Отце и в Сыне, как нечто сопутственное сущности, подобное и равное ей, лучше же сказать, тождественное с нею» (Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Ч. 3. С. 263).
В своей работе о. Николай пишет о словах Л.А. Успенского, «напечатанных жирным шрифтом в главе «Смысл и содержание иконы»: «Икона не изображает Божество. Она указывает на причастие человеческой природы к Божественной жизни». Думаем, что ни один из способов выделения не поможет ни Успенскому, ни о. Озолину отстаивать эту мысль, пока под «указанием» они будут понимать способность иконы «наглядно показывать», что Бог Сын делается описуемым как природный образ Отца, а не как природный образ Матери. Борьба о. Николая с булгаковским учением об иконе основана на непонимании, что «сообразность» о. Сергия Булгкакова и «самоподобие» о. Николая Озолина на самом деле — одно и то же. Отец Николай почему-то отказывается видеть неслучайность того, что и Успенский, и Булгаков согласно учат об одном образе во Христе. Но как может быть иначе, если невидимый образ считается возможным «наглядно показать»? Нежелание ограничиться самим же о. Николаем утверждаемой невозможностью изображения божества, «признанием одного лишь сосуществования природных свойств во Христе — видимости и описуемости и невидимости и неописуемости» и неудержимое стремление к описанию неописуемого (ср. название доклада: «Об описуемой неописуемости») в значительной степени обесценивает блестящую критику уважаемым автором учения о. Сергия Булгакова (см., например, работы о. Николая: Богословие иконы // Искусство христианского мира VI. М., 2002. С. 5-15; Учение протоиерея Сергия Булгакова об «описуемости» Бога в свете православной иконологии // Искусство христианского мира VII. М., 2003. С. 4-12) и делает его не столько принципиальным оппонентом, сколько, скорее, непоследовательным единомышленником последнего.
[242] Здесь нелишне вновь вспомнить святоотеческую аналогию между неизобразимостью Божества и неизобразимостью души, обратив внимание на то, что именно сообразность души божеству объясняет ее невидимость, неописуемость и неизобразимость. Хотя мы и не считаем тело человека неодушевленным, но изобразить душу (ни даже какое-либо свойство души) на иконе мы, согласно свв. отцам, не можем. Мы можем только веровать, что изображенное тело есть образ одушевленного человека — первообраза. Так и то, что Логос — природный образ Отца — не потерял свойства неописуемости, и потому на иконе изобразим лишь Его человеческий образ, как природный образ Его Матери, не отменяет нашей веры в боговоплощение и обожение плоти, и не превращает Богочеловека в «просто человека». Мы не видим на иконе души, но верим в ипостасное соединение ее с телом изображенного человека; мы не видим на иконе невидимого божественного образа Христа, но верим в обожение плоти Спасителя
Всякое же стремление «увидеть», «наглядно показать» то, что Живов именует «изоморфизмом вещественного и ноэтического», а о. Николай Озолин — «благодатным самоподобием», есть «благочестивая» разновидность эстетической прелести.
[243] Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Писания. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. С. 350.
[244] Лосский В. Н. Богословие и Боговидение. С. 429.
[245] Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Писания. С. 353.
[246] Амбигвы к Иоанну XXXI, Прп. Максим Исповедник, О различных недоумениях... С. 264.
[247] Выражение свт. Григория Паламы. См.: Триады в защиту священно-безмолвствующих. М., 1995. С. 32.
[248] Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Писания. С. 351.
[249] Там же. С. 352.
Опубликовано: 22/07/2013