Достоевский в изгнании
Переписка И.С. Шмелева и И.А. Ильина (1927–1950)
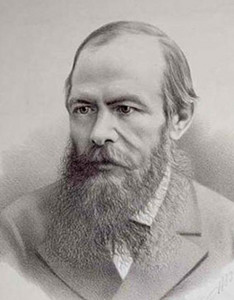 Русская пореволюционная эмиграция первой волны — в историческом и культурном смысле явление беспрецедентное. Да и в цифровом выражении она несопоставима ни с какими прежними «отливами», когда (как во времена Герцена) речь шла о нескольких десятках, а позднее — может быть, о нескольких тысячах человек. Пореволюционную эмиграцию можно назвать исходом: счет шел уже на миллионы. Среди них и цвет российской интеллигенции, в том числе — немало звезд первой величины. Раскол русской культуры совершился не только в идеологическом, но и в реальном пространстве: ее действующие лица оказались физически отделены друг от друга. Если раньше политические несогласия, религиозные распри или, положим, различные литературные направления уживались в границах единого культурного поля, то отныне это поле оказалось жестко размежеванным. И независимо от того, как мы отвечаем на вопрос, существовала ли в XX веке единая русская литература — в ее советском и зарубежном изводах, — нельзя отрицать, что эмиграция представляла собой особую, существовавшую по собственным законам культурную реальность.
Русская пореволюционная эмиграция первой волны — в историческом и культурном смысле явление беспрецедентное. Да и в цифровом выражении она несопоставима ни с какими прежними «отливами», когда (как во времена Герцена) речь шла о нескольких десятках, а позднее — может быть, о нескольких тысячах человек. Пореволюционную эмиграцию можно назвать исходом: счет шел уже на миллионы. Среди них и цвет российской интеллигенции, в том числе — немало звезд первой величины. Раскол русской культуры совершился не только в идеологическом, но и в реальном пространстве: ее действующие лица оказались физически отделены друг от друга. Если раньше политические несогласия, религиозные распри или, положим, различные литературные направления уживались в границах единого культурного поля, то отныне это поле оказалось жестко размежеванным. И независимо от того, как мы отвечаем на вопрос, существовала ли в XX веке единая русская литература — в ее советском и зарубежном изводах, — нельзя отрицать, что эмиграция представляла собой особую, существовавшую по собственным законам культурную реальность.
В этой статье речь не идет о духовном присутствии Достоевского (как бы тоже оказавшегося в изгнании) в жизни всего русского зарубежья. Однако следует сразу же отметить, что степень этого присутствия весьма велика. Эмиграция первой волны неизменно «держит в уме» автора «Бесов». Более того, он — своего рода сквозной сюжет, мера и точка отсчета в главном историческом споре: что случилось с Россией, каким представляется ее прошлое и есть ли у нее будущее? И возможен ли в принципе выход из самой грандиозной в ее истории национальной катастрофы? Эта дискуссия носит публичный характер и охватывает практически все культурные центры русской эмиграции — Париж, Берлин, Прагу, Варшаву и др.[1]
Речи и доклады о Достоевском произносились на многочисленных вечерах и большей частью публиковались в эмигрантской печати. Тем интереснее проследить его бытование в сознании диаспоры по источникам сугубо частного происхождения: «переписке двух Иванов».
И.С. Шмелев (1873–1950) и И.А. Ильин (1882–1954) — фигуры в русской эмиграции (да и во всей русской культуре) весьма и весьма значительные. Не будучи знакомы между собой в России, они примерно в одно время с ней разлучились: Шмелев пережил смерть сына, террор и голод в Крыму, Ильин после нескольких арестов был выслан из страны в 1922 г. на знаменитом «философском пароходе». Оба оказались в изгнании, уже обладая крупными именами (особенно И. Шмелев, который, несомненно, принадлежал к первому ряду русских писателей — таких, как И. Бунин, А. Куприн, Д. Мережковский, Л. Андреев, М. Горький и др.). Их эпистолярное общение охватывает почти четверть века (1927–1950) и носит чрезвычайно интенсивный характер, не прерываясь даже в годы войны (более 600 писем: 233 — Ильина, 385 — Шмелева). Этот сравнительно недавно обнародованный корпус документов (самый большой из известных доселе эпистолярных циклов русского зарубежья) имеет исключительное значение для отечественной культуры[2].
Достоевский отнюдь не является главным предметом переписки или какой-то специальной ее темой. Он лишь один из многих ее мотивов. Тем знаменательнее его постоянное присутствие в этом мощном эпистолярном диалоге, охватывающем самые широкие сферы жизни и культуры.
Тут важен сам характер общения, его доверительность и интимность. Это раскованная «неофициальная» речь, отличающаяся свободой и субъективизмом оценок, не связанная формами и условностями публичного собеседования. Разумеется, нельзя упускать из виду взаимное идеологическое притяжение корреспондентов, их принадлежность к одному идейному лагерю, их стойкий и непримиримый антибольшевизм[3].
Конечно, эпистолярия — «маргинальный» жанр. В печатных статьях, публичных выступлениях и т.д., как правило, наличествуют более продуманные и отточенные формулировки, взвешенные суждения, литературно оформленные взгляды. Эпистолярия более случайна, непосредственна, не «отредактирована». Порой это черновик «основного текста». Но тем важнее подобный источник, часто фиксирующий душевный порыв, непосредственное впечатление, только что рожденную, «не приведенную в порядок» мысль. Письменный диалог всегда тяготеет к устному общению. Благодаря большей свободе автора и ослабленной самоцензуре проблема здесь порой более обнажена, нежели в «официальной письменности».
Мы не касаемся здесь вопроса о художественных взаимодействиях, то есть о влиянии романистики Достоевского на творчество И.С. Шмелева. Это отдельная тема. Не касаемся также (в сколько-нибудь полном объеме) и идеологического воздействия Достоевского на миросозерцание И.А. Ильина. Нас интересуют «маргиналии»: слова, словечки, выражения, отдаленные и перекрещивающиеся мотивы, «странные сближения». Именно эти косвенные приметы свидетельствуют, что Достоевский сделался не только культурной доминантой зарубежного русского мира, но, так сказать, и «образом языка», семантической необходимостью для говорящих. Ибо его стилистика, как полагал И. Бродский, в наибольшей мере соответствует природе русского языка: «…Это язык придаточного уступительного, это язык, зиждущийся на «хотя». Любая изложенная на языке этом идея тотчас перерастает в свою противоположность, и нет для русского синтаксиса занятия более увлекательного и соблазнительного, чем передача сомнения и самоуничижения»[4] (последнее особенно приложимо к стилистике Шмелева).
Присутствие Достоевского в «переписке двух Иванов» обнаруживается на многих уровнях.
В первом же ответном письме Ильину (по поводу его книги «О сопротивлении злу силою») Шмелев пишет: «Понятен мне весь фальшивый вой-вопль, поднятый слева, и вся эта эквилибристика, с опорой на Закон Христов! — вплоть до Бердяева!.. И если, для меня, самая математическая истина, примененная к живому, к вечно формирующемуся духу, губит его, я обязан эту формальную истину отвергнуть» (1927, I, 14). Хотя имя Достоевского здесь не названо, именно к его «формуле» (высказанной в письме 1854 г. к Фонвизиной) — что если истина оказалась бы вне Христа, он, Достоевский, предпочел бы остаться со Христом, нежели с истиной, — обращается здесь Шмелев.
Но не только семантическое тяготение к Достоевскому (что, впрочем, характерно для всего культурного пространства русского зарубежья) присуще обоим корреспондентам. Интерес состоит в другом: в том, что вербализованные Достоевским национальные архетипы как бы становятся языком нации. Конечно, это язык посвященных. Но в известной мере это и универсальный язык. Он свидетельствует о врастании «понятий» Достоевского в живую «нелитературную» речь, об их просачивании в стиль национального мышления, в национальный менталитет.
У Ильина:
«Грациозно, остро, едко и «с оттенком высшей иронии» (так выражается Достоевский)» (1929, I, 158).
«Надеюсь стать на ноги. Утешен. И помощь из рук чистых, благородных и независимых — словом, как Лебядкин: «благодарен и независим» (1929, I, 122).
«Вы читали, наверное, об Л.С. Мееровиче, в Париже… Это было угнетающее известие, вроде того, от которого у Достоевского окончательно сошел с ума князь Мышкин» (1927, I, 74).
Об убийстве Кирова: «А о Кирове знайте: по-моему, «разделишася на ся»[5] — и пусть расправляются по слову Достоевского в Карамазовых — насчет гадов (слова Ивана: «один гад съест другую гадину». — И.В.). Лиха беда начать» (1934, I, 499).
И, конечно, слова Шмелева — «смирись, горделивая и глупая блоха!» (1931, I, 187) — отсылают нас к знаменитому призыву Пушкинской речи.
В дело идут не только фразеологизмы (такие, например, как «скверный анекдот», «мировая обшмыга» и т.д.). Система образов Достоевского, его метафористика используются для описания современного мира, глобальных потрясений XX века: «Натасканный Иваном Федоровичем Карамазовым Смердяков, оказалось, вылез из своей петли и разошелся, — пишет Шмелев. — Сплошная смердяковщина. О, гениальный Достоевский! Что может быть мерзей пошлого ума! из назначенного ему кабинета вышел на улицу… — как его загнать, заклясть?! Поло-у-мный ум!». Русской литературой уже предвосхищены те явления, которые вскоре ввергнут человечество в мировую катастрофу. Пошлость становится источником кровавых метаморфоз. «Передонов и Смердяков — трогательный дуумвират. «Гитлер» — это же символ, воплощение… И гибель его не случайна: напоролся на Россию! Это тоже — символ и знамение. Не на большевиков, конечно, а, именно, на Россию. Так было назначено, в этом «чудо», и это чудо «ум»-то и не предусмотрел!» (1945, II, 359–360). Речь снова идет о непредсказуемом и иррациональном начале русского национального духа («умом Россию не понять»), о неполноте той самой «математической» истины, которой автор «Бесов» никогда не согласился бы заместить Христа.
В другом случае герой Достоевского используется как «шифр» для характеристики социальных и нравственных явлений, как некий образ-отмычка, как метафора состояния. «Его Федор Павлович, — пишет Шмелев, — некое откровение, и вовсе, думаю, не «крайность»… а — правило, хоть на миг. Многое множество «блудоборцев» из Святых — а толстовский о. Сергий! — испытывали себя, жестоко до… «бездны». И все сие — тайна велика есть» (1946, II, 484). Ильин также вспоминает Федора Павловича Карамазова — для достижения собственных литературных целей. Он пишет о С. Булгакове: «Был резонер-выдумщик с Федоро-Карамазовским уклоном, таким и остался» (1947, III, 35). Старик Карамазов вполне подходит и для анализа современных обоим корреспондентам литературных ситуаций. Шмелев говорит о только что вышедшем романе своего соотечественника: «Никогда не смогу простить Бунину, что поганил чистую Русскую словесность — порнографией. Вот, вышли «Темные аллеи«… Да, темные. Я не читал, но иные рассказы знаю: »Федор Павлович», — ослабевший старый кобель, пущает слюни… Понимаете ли, как такая книжонка, подкрепленная именем «неприкосновенным» — разлагает?!» (1946, II, 514). Разумеется, ничего подобного Шмелев не может себе позволить в публичных высказываниях. В 1933 г. он даст очень высокую оценку первому русскому нобелиату, посвятив ему специальную речь[6]. (Эта неприязнь к позднему Бунину подкреплялась еще и ходившими в эмиграции слухами о заигрывании автора «Темных аллей» с советским посольством.)
По мнению Шмелева, именно художественная ирония Достоевского была бы потребна для передачи той атмосферы, которая предшествовала и сопутствовала событиям, изменившим лик России: «Богатая глава — сатира о «культуре русской I четв. XX века». Эх, нет Достоевского!.. — в роман бы вдвинул эту «кучку»» (1947, III, 40). Но Достоевский «годится» и для постижения того, что совершается ныне: «А не написать ли мне — «Что думает Сталин, когда ему не спится?» — А знаете… может быть, уже и Сталина давно нет, а все — какая-то… эманация?!. Напишу — «Новые Записки из-под подполья» (1948, III, 278). Позволительно усмотреть в этих шутливых словах гипотетическое намерение дать психологическую интерпретацию большевизма.
Иногда устойчивая формула Достоевского представляется обоим корреспондентам поводом для глубоких философических обобщений. Так, чрезвычайно высоко оценивая «Солнце мертвых» Шмелева, Ильин замечает, что это «один из самых страшных документов человеческих», что при чтении ему казалось, «что человеку от стыда нельзя больше жить на свете» и «что Бог ужасается, что создал человека». На эмоциональном пределе толкуя о «Солнце мертвых», Ильин даже заявляет, что по сравнению с повестью Шмелева книга Иова (кстати, любимая книга Достоевского) — «рефлектирующее благочестие обедневшего и захворавшего жида!» и что даже сам Апокалипсис — «книга ходульных аллегорий и сонных страхов». (Разумеется, такие преувеличения автор мог позволить себе только в частном — по случаю — письме). По его мнению, повесть Шмелева — «Богу — меморандум; людям — обвинительный акт» и именно в этой связи «возвращение Иваном Карамазовым «входного билета» — кажется… пустой, аффектированной фразой…» (1927, I, 21–22).
Шмелев с увлечением подхватывает этот «достоевский» мотив: «Возвращение «входного билета»!.. Нет, Вы правы, не смею и не имею основания, несмотря на видимость. Ибо не моим весам взвешивать… Ив. Карамазов уж очень умен и любитель поиграть мыслями. И — дешев, — это карикатура на интеллигента русского. Улучшенное издание Смердякова. Ему легко вернуть «билет», ибо у него двадцать — собственной фабрикации, и подлинный ему не нужен. Да он его и не получал! У него его и нет, и он это знает. Почему с «пустышкой» не расстаться? Все это фарс словесный. И более гнусного не дано нашей да и мировой литературой». Для Шмелева, как и для Ильина, метафора Достоевского есть выражение глубочайших парадоксов национального — бунтующего — духа, краткое и емкое обозначение духовных и душевных драм, сопутствующих «классическому» русскому интеллигенту. «Но какое предвидение!!. — продолжает Шмелев. — Теперь этих Иванов Карамазовых — пачки. И счастливы с билетами, кучками штампуют — и все одного вида и на все проходы и выходы. Фальшивомонетчики. Их — по всей Европе. На днях возьму и перечитаю, вникну» (1927, I, 24–25).
Справедливости ради надо сказать, что «возвращение билета» мучит не только двух крупнейших русских интеллектуалов первой эмигрантской волны. Об этом же после захвата нацистской Германией Чехословакии напишет другая эмигрантка — Марина Цветаева:
О, черная гора,
Затмившая — весь свет!
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет.
Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей
Отказываюсь — выть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть –
Вниз — по теченью спин.
Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один — отказ.
Заметим, что Цветаева трактует «возвращение билета» как отказ от мира, отказ от жизни вообще. Герой же Достоевского имеет в виду нечто другое — невхождение в Царство Божие, отвержение будущей гармонии. Таким образом, метафора Достоевского трактуется ее истолкователями в довольно широком диапазоне значений. Шмелев и Ильин дают собственное прочтение ивано-карамазовской декларации. Они полагают, что у Ивана наличествует «ложь в постановке вопроса» (воспользуемся этим выражением из «Дневника писателя»). Вспомним, что в свое время обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева весьма беспокоила именно эта глава романа, — он спрашивал Достоевского, каков же будет ответ на инвективы Ивана. Ответом стал весь роман. Но вербально этот «ответ» не сформулирован в тексте. Утверждая, что у Ивана Карамазова нет права на билет, участники переписки дают, по сути, собственную интерпретацию одного из главных романных положений (которое, впрочем, может проистекать из самой «диалектики текста»). «Но… кому же и возвратить-то билет? Некому! Никто никакого билета и не выдавал! И, конечно, невер Иван Карамазов ехидничает и притворяется, что очень богат. Никакого наследства не имел, и возвращать ему нечего и некому», — заключает Шмелев. Он полагает, что бунт Ивана — это лжебунт и что герой лишен православного мироотношения, в котором, очевидно, и содержится истинный ответ.
Через два десятилетия корреспонденты вновь возвращаются к этой теме. В 1948 г., говоря о фактах современной советской жизни, изложенных в эмигрантских сборниках «Православная Русь», когда «даже от слов о стране пыток и бойни неустанно немеет сердце и разум гаснет», Шмелев замечает, что во время написания своего «Солнца мертвых» он не испытывал таких мук. «Сборники эти на меня действуют гибельно… — такое от них дыхание, как от «Бобка», а — в музыке — как от «пляски костяков» Сен-Санса… Та жизнь (Мертвого Дома), где нарушены все меры, — оскорбляет и поганит последнее живое в душе… Если Ив. Карамазов «возвращает билет» (пусть это его «поза», но это же весь Достоевский!) за одну неискупленную слезку умученного ребенка… — за такое падение — нет уже ни «билета», ни-чего нет! Если так можно вытошнить из себя Бога, — да что же останется?! Не «возвращение билета», лучше бы вовсе и не родиться…» (1948, III, 251). Здесь можно говорить о сближении с цветаевским мироощущением, с ее трактовкой знаменитой формулы — полным, тотальным отказом от бытия.
В этой связи Шмелев цитирует старое, двадцатилетней давности письмо Ильина — от 18 марта 1927 г.: «Я знаю, что Вы не возвращаете этого билета. И Вы еще покажете — почему не возвращаете. Жду этого». Теперь он полагает, что может ответить на слова младшего друга: «Ваше пророчество исполнилось. Ожидания Ваши, смею думать, я оправдал… за эти протекшие… двадцать лет… Теперь это достояние истории. Я озираю созданное… Теперь и мне ясно, почему не возвращаю… а — ищу входа… сердце свое показать Судие Праведному. Найду ли?.. И потому мечусь и «тупикую»… Не найду — Праведный повесит фонарь у входа… и я увижу и пойду… на свет…» (1947, III, 32).
«Возвращение билета» — ключевая формула жизни и смерти, мощный поэтический образ[7]. Врата в Царство Божие отворяются исполнением своей миссии в мире. Ивано-карамазовская парадигма отвергается самой жизнью, как в романе — самим романом, в котором герой терпит крах. Ибо человек, взыскующий о слезинке ребенка, а «другой рукой» обрекающий на смерть старика-отца, ставит под сомнение свое идейное бескорыстие, моральную обоснованность своего «бунта».
Достоевский служит для обоих корреспондентов мерилом и точкой отсчета не только при обсуждении «последних вопросов». Он неизменно возникает и тогда, когда речь идет о литературе как таковой.
Толкуя о кровавых потрясениях Первой мировой и Гражданской войн, Шмелев замечает: «Как послышишь — да что тут «провалы» Достоевского! Не снилось и Федору Михайловичу! Он лишь зарисовочки и «кроки» (наброски чертежа, рисунка. — И.В.) дал. Глубже — или — площе? — натура человека?» (1927, I, 23).
Когда критика сравнивает его с Достоевским, это волнует и смущает автора «Солнца мертвых». Не без некоторого трепета он цитирует в письме отзыв одной французской газеты — о себе: ««Он имеет все права занять место бок о бок с»… (прости ему Господи! — мое) — с Пушкиным (!!!), Гоголем — Тургеневым… и «недалеко от Достоевского»» (1946, II, 455). Подобные сравнения в высшей степени лестны для писателя, числившего себя последователем русской реалистической школы. «Знаете… — даже Георгий Содомович (то есть Адамович. — И.В.) в лехциях о современной русской литературе… — говорили мне слышавшие, — дойдя до «а-за», изрек, врах мой, что… «после Достоевского в русской литературе никто еще не давал так человеческого страдания, как «аз» (1936, II, 118–119).
Со своей стороны Ильин, вписывая Шмелева в контекст русской классической прозы, дает ему характеристику «от противного»: «Это не холодная воображаемость Тургенева; не горячая воображенность Толстого; не «лирическая» анатомия наблюденностей у Чехова; не одержимое извержение замученных отчаяний у Достоевского… Это зримость блаженствующего сердца, поющего благодарную песнь и нежно улыбающегося сквозь слезы» (1948, III, 335). Говоря о своих «Путях небесных», Шмелев вновь апеллирует к «Братьям Карамазовым»: «Это же первый опыт — «православного романа», о чем мечтал когда-то К. Леонтьев, отрицая «опыт» Достоевского — «Братья Карамазовы» (1946, II, 381). Интересен в этом отношении ответ Ильина: «Это первый, так сказать, сознательно-православный роман в русской литературе». Далее, впрочем, следует важное добавление: «Бессознательно — было православно все лучшее, что создала русская литература» (1946, II, 387).
О бессознательности, правда, несколько иного рода толкует и Шмелев, когда — в очень рискованных выражениях — сравнивает двух великих писателей земли русской: «И как теперь резко видно, насколько же Достоевский (весь из-себя!) врос в историю нашей художественной словесности! Насколько же гениален в мыслях! — Толстой перед ним — глуп. Глупым его считал всегда Ключевский (от его сына (Ключевского) слышал я)… Вронский — худшее издание А. Болконского. Толстой гениален, когда дает бессознательно, творит образно» (1946, II, 401). Конечно, такая степень откровенности немыслима в печати. В переписке же оценки крайне эмоциональны, утрированны, полемичны. Здесь играет роль и объективно сложившаяся двуполярность российского литературного пространства (ср. книгу Д. Мережковского «Толстой и Достоевский»), по отношению к главным персонажам которого вынуждены позиционировать себя те или иные писатели. (Вместе с тем Шмелев предлагает довольно неожиданную гипотезу происхождения одного из героев «Идиота», А.И. Тоцкого, от толстовского «Семейного счастья»: «Там — Сем. Мих-ч — друг отца — приготовил себе жену, Манечку, а у Достоевского — Тоцкий? наложницу… У Толстого — сама натура, диво! — живая — дневная — жизнь! Надо перечесть и перечесть! У Достоевского — все ночное! Смотрите, как пути-то расходятся!.. Оттолкнулся от «Семейного счастья» Достоевский и — покатился своей дорогой» (1947, III, 165).)
Но любопытно, что автор «Бесов» выступает как критерий и при оценке корреспондентами современной им советской литературы. Сообщая Ильину о правительственном банкете в Париже в честь советской делегации, Шмелев дает характеристику тем, кто представлял на этом банкете отечественную словесность: «Представлена она, Дива наша, Ильей Эренбургом и Симоновым… Поют Ей «славу». Как же «мелко плавал» в «Бесах» Федор Михайлович!.. Вот когда — про-славили-то!.. Вовремя отошли Покойнички… Ну, представить себе теперь таких вот зрителей, как Федор Михайлович, Лев, Чехов, западник Тургенев!.. И — у всех заткнуты рты, но созерцать можно… просят даже! Гремит Русское могучее Слово… и — грозит!.. — великим Эренбургом! мировым!.. эх, Максима с Алешкой-то (то есть покойных Горького и А.Н. Толстого. — И.В.) не могли послать во славу России…» (1946, II, 435).
В переписке Шмелева и Ильина затрагивается вопрос о сути и смысле отечественной словесности, в том числе о направленности ее магистрального пути. И, попутно, об упущенных ею возможностях. «В русской литературе XIX века, — говорит Ильин, — писатели состояли нередко прямыми «сыщиками зла», но сыщиками (простите Бога для!) — смакователями, аки «псы, возвращающиеся на блевотины своя». Не Пушкин, не С.Т. Аксаков, не Толстой, не Лесков. Но Гоголь сам изнемог от этого, даже до смерти. Достоевский мечтал прекратить это. Тургенев, скудный в духовном видении, старался не впадать в это. Но Салтыков! Но любезные народники! И особенно народники «последнего призыва» — Бунин, Горький, Куприн. Начитаешься — и свет не мил, на людей не глядел бы, России стыдился бы…» (1949, III, 397). Это достаточно распространенная точка зрения — о вине русской словесности во всех последующих исторических потрясениях, о негативной доминанте в изображении ею русской жизни, несмотря на попытки (Гоголь, Достоевский) найти в действительности положительно-прекрасный идеал. Отзвуки этой популярной концепции доходят до наших дней. «Конечно же, — замечает уже на исходе XX века И. Бродский, — Достоевский был неутомимым защитником Добра, то бишь Христианства. Но если вдуматься, не было и у Зла адвоката более изощренного»[8].
Достоевский — неотъемлемая часть миросознания Шмелева и Ильина. Он тот «магический кристалл», сквозь который они рассматривают коллизии русской истории и скитания национального духа. Но это отнюдь не означает, что они относятся к автору «Идиота» со слепым обожанием. В их эстетических суждениях всегда присутствует острый критический прищур.
В одном из писем Ильин, тонко ощущающий природу художественного текста, замечает: «Есть такой закон: эмоциональная взволнованность автора, не «снятая» в тексте, мешает художественному волнению читателя. Это есть у Достоевского в Бедных Людях. В «Хозяйке» это дебордирует[9]. Читатель не должен чувствовать, что автор его «умиляет» или «восторгает» (1946, II, 520). В том же письме он говорит относительно старца Зосимы: «Святость — это головокружительно, это «дух занимается»; ее если предположить — то уже много. В Карамазовых «Зосима», изображенный так, мешает художественной убедительности. Художественная агиография — почти внутреннее противоречие. Однако Лескову и Толстому иногда удавалось». В свою очередь Шмелев, сам бьющийся над образом старца в «Путях небесных», соотносит свой художественный опыт с опытом предшественника: «Ох, сорвусь на «старце». Не задался он и Великому Достоевскому. Зосима… — отвлеченность (схема)» (1947, III, 16). Кстати, в другом письме он допускает, что для неокрепших душ тексты автора «Записок из подполья» могут представлять некоторую угрозу: «Правильно, что старцы не дают «Лествичника» неискушенным монахам, — да не соблазнятся. Трудно взбираться на высоту в 33 ступени!.. — как трудно и опасно многим внимать душекопателю-взрывателю Достоевскому» (1946, II, 475).
Шмелев не устает обращаться к текстам Достоевского, вживаясь в их поэтику и стилистику. Он посылает Ильину рассказ «Почему так случилось (Профессор и черт)» — чистый ремейк, где идет литературная игра с соответствующим местом в «Братьях Карамазовых». Черт: «А, ведь, недурственно, меня-то, Федор-то Михайлыч, представил, а? И анекдотики мои… про нос, исповедальню, бретоночку-красотку?.. Повеселились наши. Да-а… Иван-то Федорович его… у нас! чиновником особых поручений, сверх штата, — масса кандидатов! Как ни вертелся, тогда-то, а признал: аз есмь!» (1945, II, 340).
При всем при том у Шмелева существует к Достоевскому целая система художественных претензий — и это при почти безоговорочном восхищении его гением, особенно его провидческой составляющей. (Замечательно, что этических недоумений у Шмелева и Ильина в отношении автора «Записок из подполья» не возникает.) Оценки героев неожиданны и порою жестоки: «Провал у Достоевского с Раскольниковым — явный, — ложь и ложь. Соня — ясна, а Раскольников — обманывает себя, нудящий неврастеник…» Но зато «Митя Карамазов — весь ясен, Алеша — от роду — «блаженный», как Мышкин-юрод» (1946, II, 393). «Трепещу (за себя), после 3-го прочтения «Подростка». Как так можно?.. Но ведь после «Подростка» — «Братья Карамазовы»!! Очевидно, «Подросток» — какая-то подготовка… и «вьюнош» награжден (неудачно, в художественном смысле) мыслями самого Федора Михайловича» (1948, III, 263).
Автор «Лета Господня» в третий раз перечитывает не только «Подростка» (кстати, он вообще пристален к русской классике: признается Ильину, что «Войну и мир» перечитывает в седьмой раз). Последняя работа Шмелева — предисловие к «Идиоту», написанное в 1949 г. для одного цюрихского издательства[10]. Эта статья замечательна по глубине и точности, однако в ней нет почти ничего из говорившегося Ильину. Суждения в письмах — резче, импульсивнее, парадоксальнее, чем в печатном тексте. И, конечно, более спорны.
«Эти дни перечитывал (кажется, в 3 раз, после большого срока) «Идиот». Вбирал. Какое сумбурное построение романа! Сколько лишней (да, да!) нагрузки. Роман — гениальный и — неудачный. О технике — оставлю. Самое удачное — что за шедевр! — генеральша Епанчина! Я ее взял всю — она влилась. Вот — истинная закваска русской женщины! Пусть — сумбурно, но в сем-то и — диво!» (1947, III, 163–164).
Собственно, Шмелев повторяет здесь некоторые претензии Достоевского, обращаемые им к самому себе как писателю: многословие, громоздкость композиции (вызываемая, как он полагал, срочностью работы) и т.д. При этом автор «Солнца мертвых» столь внимателен к деталям романа, что спрашивает Ильина, что такое «ждановская жидкость» (употребленная Рогожиным после убийства Настасьи Филипповны), какой ее состав, ибо во времена Достоевского не было формалина.
Принимая целиком генеральшу Епанчину, Шмелев высказывает в высшей степени любопытное суждение о другой героине — Аглае, связывая ее судьбу с одной, на его взгляд, капитальной особенностью семейства Епанчиных. «Но вот что — странно: нигде в романе — ни обмолвки о религиозности… этой семьи! Это, как, провал. Почему? Сознательно? Но отсюда-то и провал романа, — сгорела, ни за что… Аглая-перл! Какой конец ее!.. насмешка… — так кончить! Да ведь ясней ясного — вести «идиота»! И — вывести. Все данные и художественно данные предпосылки. Аглая… Диво дивное! Что — могла!.. Какая намечавшаяся (Достоевским) сила!.. Или он сознательно представил ее — пустой религиозно?.. Отсюда — такой гадкий крах. Так не пощадить ее, так «осмеять»! Осмеял же!.. Ясно, что взял ее с одной из Ковалевских, не Софьи? — он же был влюблен! Что он вытворял, и как над ним на-сме-ялись! Может быть, и поделом. Но где же художественное чутье Достоевского?!.. Что бы было, если бы он дал Аглае крупицу… веры (как у Лизы Калитиной, но та — овца, а Аглая — пыл, порох… огонь!..) Как смят роман!.. Тут — личное, боль и — отместка?!.. Зато, при всей гениальности про-вал романа».
Для Шмелева отсутствие религиозного сознания — глубокий душевный изъян. Писатель намечает сюжетную линию «продолжения» романа: это — исполнение Аглаей своей миссии («вести «идиота»»). Путь Аглаи-жертвы и Аглаи-подвижницы. Конечно, такая миссия возможна только в христианском контексте. (Ср. тайные опасения генеральши Епанчиной относительно возможного брака ее дочери с князем Мышкиным, препятствием к чему, как она догадывалась, могла явиться сексуальная несостоятельность князя.)
В том же письме наличествует попытка «литературоведчески» связать образ Аглаи с чеховской героиней и с другим женским образом — уже из своего собственного романа. «Милый, Вы не чувствуете, что Чехов оттолкнулся от Аглаи (хоть чуть!) для «Мисюсь»?.. Он — сам воздыхал о… «Мисюсь-Аглае»… И вот, ныне чую: я, слепо, взял то же: Я должен раскрыть Дарью… Женщину-дитя… дать!!»[11] Автор »Человека из ресторана» постоянно соотносит художественный опыт Достоевского как с собственным творчеством, так и с общими законами искусства.
Особенно занимает Шмелева вопрос о связи образа Аглаи с ее прототипом, с интимными фактами биографии Достоевского: «О Софье Ковалевской… Так у ней была еще сестра, — кажется — зародыш «Аглаи»… Та «Аглая» — в которую был Достоевский влюблен (она ему рукопись рассказа принесла, и он — врезался!), мучила Достоевского, издевалась над ним… а он… что он вытворял! Это после смерти 1-й жены. Вот откуда зародился «идиот», по моему домеку!.. Это — себя он, раздавленного… и — до-да-вил-таки. И — ухлопал свою «аглаю»… — она в революцию кинулась, с каким-то французом! (Аглая с политическим эмигрантом и плутом, тут и патер-иезуит припутан.)» Конечно, Шмелев опирается на воспоминания С.В. Ковалевской, где описывается роман Достоевского с ее сестрой Анной Васильевной Корвин-Круковской, позднее вышедшей замуж за француза Жаклара, будущего участника Парижской коммуны. (Очевидно, на облик Корвин-Круковской наложились и некоторые черты А.П. Сусловой, сведения о которой могли быть почерпнуты Шмелевым как из российских, так и из эмигрантских изданий.)
Шмелев сопрягает коллизии «Идиота» с изломами авторской судьбы. Он пишет о романе очень лично и очень страстно. «Испорчен — гениально, но испорчен роман! По длиннотам — туда-сюда (ужасно!), но, главное — переломил, не пощадил уже данные — дивные души!.. Но и длинноты — как самостоятельны, вне романа — великолепны. Хоть часто — шарж, памфлет, карикатура. Какой страстный, ре-жу-щий ум! Какой… зонд! Как много читал! Подумать: умер в 60 лет! Что бы натворил!.. Ведь все — заготовка была, а «к столу»-то обеда так и не подал: все еще было… в кухне! Ему, может быть, и легко, повару-то… знает сыть-вкус (и как будет перевариваться), а «господа» (читатели) — обижены… судьбой и — кончиной повара. Все его творчество — только стряпня, гениальная… еще не вылит «пломбир» в форму, еще только (больше) соуса, а… отбивные еще ждут плиты…».
Поразительно, что, рассуждая о творчестве Достоевского и, безусловно, признавая гениальность писателя, Шмелев рассматривает важнейшие его произведения как некий пролог, пролегомены к «основному тексту». Разумеется, подобное мнение не высказывалось публично.
И, наконец, следует сказать еще об одном «странном сближении».
В письме 1937 г. Шмелев описывает свое триумфальное выступление в Праге, посвященное 100-летней годовщине со дня смерти Пушкина. Это послание — едва ли не «полная рифма» к письму Достоевского к жене от 8 июня 1880 г., где потрясенный автор сообщает Анне Григорьевне о грандиозном успехе своей Пушкинской речи — восторженных овациях публики, обмороках в зале и т.д. Шмелев, в свою очередь, пишет: «Были слезы, объятия, сумасшедшие письма, подношения. Одна девчурка-гимназистка (16 л.) написала в бредовом письме — «Зачем Вы посетили нас» — и т.д. Словом — национальный фронт раздвинулся и поглотил «врагов»». По смыслу и тональности это прямо перекликается со словами Достоевского: «…Зала была как в истерике, когда я закончил — я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими…»[12] Знаменательно, что и Достоевский, и Шмелев расценивают свои выступления прежде всего как идейную победу, как успех »нашей» партии. «Какой-то профессор старый, пронзив меня взглядом, изрек: «это — выше (!! — ?) Слова Достоевского!». Были и другие глупости. А я счастлив одним: наша взяла, и — живет наше! Все «врази» расточились, притихли, сникли… ибо я говорил и утверждал… Пушкиным!» Вопросительные и восклицательные знаки, в эпистолярном смятении поставленные Шмелевым после слова «выше», весьма напоминают смущение Достоевского, которому Страхов передал слова Льва Толстого, что тот ценит «Записки из Мертвого дома» выше всего, что было в русской литературе, включая Пушкина. («Как включая?» — испуганно вопросил Достоевский.) Шмелев пишет Ильину, что «получил — кроме всего невещественного, и вещественное: от группы нежных дам и проч. — дорогой несессер и дорожный бювар — с которыми не знаю что делать. И — такие взгляды, полные обожания, что… поспешил в обитель» (1937, II, 194). Это опять же почти буквально совпадает со сценой 1880 г.: «Я ослабел и хотел было уехать, но меня удержали силой. В этот час времени успели купить богатейший, в 2 аршина в диаметре лавровый венок, и в конце заседания множество дам (более ста) ворвались на эстраду и увенчали меня при всей зале венком…» Венок Достоевского и несессер с бюваром Шмелева играют в обоих случаях одинаковую — знаковую — роль. «…Меня потрясло, — продолжает Шмелев, — единодушное признание тысячной аудитории в Праге, — встал — без единого возгласа понудительного — весь зал, даже эс-эры» (1937, II, 199). Это «даже эс-эры» интонационно и смыслово совпадает с сообщением Достоевского, что после Пушкинской речи его «бросился обнимать со слезами» Тургенев (даже Тургенев!). Через десять с лишним лет, вспоминая о тогдашнем своем триумфе, Шмелев проводит историческую параллель: «Такая же — почти — «ошибка» Достоевского (о, не смею равняться! (8 VI 1880)! — раскалил, оглушил, унес, вознес! и — быстро пришли в себя… и подивились: «что за наважденье!..» (1948, III, 337).
Незадолго до смерти Шмелев напишет Ильину: «Читаю «Достоевский» Мочульского. Добротная работа. Лучшее из его писаний» (1948, III, 337).
Достоевский — последняя дума Шмелева. Впрочем, он присутствует в тексте или подтексте всей переписки двух русских изгнанников (мы ограничились только наиболее выразительными примерами). Он существует в их сознании как лейтмотив, «код» русской культуры, как ее национальный архетип. Следует помнить, что сам этот эпистолярный диалог приходится на годы, когда в метрополии количество изданий Достоевского, равно как и ученых сочинений о нем, достигает низшей точки. Он становится на родине персоной нон грата. То особое напряжение, которое он вызывал в интеллектуальной жизни первых двух десятилетий XX века, в культурном поле Советской России почти неощутимо (хотя и предпринимаются попытки — снивелировав или сняв «последние вопросы» — вписать «защитника униженных и оскорбленных» в приемлемый для власти литературный ряд). Переписка Шмелева и Ильина свидетельствует о том, что автор «Братьев Карамазовых» остается важнейшим духовным фактором в жизни русского зарубежья. Эмиграция как бы примеряет художественные пророчества Достоевского к свершившейся участи России и к собственной судьбе. Он во многом определяет мирочувствование интеллигентных эмигрантских кругов. Он — действующее лицо той мировой драмы, свидетелями и участниками которой стали люди, как оставшиеся в России, так и покинувшие ее. Можно сказать, что место, занимаемое Достоевским в эпистолярии Шмелева и Ильина, аналогично его присутствию в культурном сознании XX века.
[1] Интересна статистика докладов, статей и рефератов, посвященных Достоевскому и зафиксированных в летописях русского зарубежья (см. публикующуюся с 1993 г. по настоящее время «Хронику литературной жизни русского зарубежья» в «Российском литературоведческом журнале» (с 2000 г. — «Литературоведческий журнал»). Пристальное внимание к автору «Братьев Карамазовых» не ограничивается ритуальными моментами — такими, например, как столетний юбилей в 1921 г., — а носит постоянный характер (см. работы Н. Бердяева, П. Струве, С. Франка, В. Зеньковского, К. Мочульского, Ф. Степуна, В. Набокова и др. в кн.: Русские эмигранты о Достоевском. СПб., 1994). Можно сказать, что для русской эмиграции Достоевский больше, чем Достоевский: он — некий ретроспективный ориентир и «указующий перст» одновременно.
[2] Следует отдать должное публикаторам и комментаторам, подготовившим этот огромный текст. (См.: Переписка двух Иванов. Т. 1 (1927–1934). Т. 2 (1935–1946). Т. 3 (1947–1950) // И.А. Ильин: Собрание сочинений. М., «Русская книга», 2000. Далее год написания письма, том переписки и цитируемая страница обозначаются в тексте.) Эта работа была начата проф. Питтсбургского университета Н.П. Полторацким, создателем Архива И.А. Ильина в Мичигане. После кончины Полторацкого в 1990 г. коллекция писем при посредстве проф. А.Е. Климова была передана в Москву, где работу продолжили Ю.Т. и О.В. Лисица, подготовившие указанное издание. Особую трудность для расшифровки представляли письма Шмелева, изобилующие сокращениями и написанные в высшей степени неудобочитаемым почерком, который даже его постоянный корреспондент разбирал с большим трудом. В настоящей работе мы приводим их в расшифрованном издателями виде, не отмечая конъектуры, сокращения слов и другие особенности рукописного текста. Все выделения в письмах принадлежат их авторам.
[3] Можно говорить и о духовном родстве, об открытии Шмелевым и Ильиным друг друга (первое, от 19.01.1927, письмо Ильина, не знавшего отчества своего корреспондента, начиналась просто: «Дорогой!»). «Мы — в одном дышле», — пишет Шмелев 8.02.1947 (III, 29). Ильин: «Меня поражает, что мы с Вами в одни и те же годы, но в разлуке и долгой разлуке шли по тем же самым путям поющего сердца» (1946, II, 386). В эмиграции оба они стоят несколько особняком, примыкая к ее не самому влиятельному монархическому, «национально-патриотическому» крылу. Это отражается даже в лексике одного из корреспондентов (Шмелева), именующего газету П.Н. Милюкова «Последние новости» — «Последними гадостями», «Возрождение» П. Струве — «Вырождением», В. Ходасевича — Худосевичем, Г. Адамовича — Содомовичем, И. Северянина — Скверянином и т.д. Ильин, имевший более или менее постоянный «профессорский» заработок (Германия, Швейцария), материально поддерживал проживавшего во Франции Шмелева, который испытывал большие денежные трудности и бытовые неудобства, особенно после смерти жены (1936).
[4] И. Бродский: О Достоевском. Первоначально: Russica-81. New York, 1982, 209–216. См. также: Русские эмигранты о Достоевском. СПб., 1994, 375.
[5] Очевидно, Ильин имеет в виду текст Евангелия от Марка: «Если царство разделится само в себе («на ся разделится» в старославянском варианте. — И.В.), не может устоять царство то» (Мк. 3:24).
[6] И.С. Шмелев: Слово на чествовании И.А. Бунина. Филологические записки. Вестник литературоведения и языкознания 4. Воронеж, 1995.
[7] Мы взяли на себя смелость озаглавить так одну из наших книг. И.Л. Волгин: Возвращение билета. Парадоксы национального самосознания. М., 2004.
[8] Впервые в сб.: Russica–81. См. также: Русские эмигранты о Достоевском. С. 377. Эти слова (со ссылкой на Л. Шестова) вспоминает Бродский и в своей беседе с Чеславом Милошем (Литературное обозрение 2 (2001), 16).
[9] От франц. deborder — переливаться через край.
[10] Русские эмигранты о Достоевском. С. 283–290.
[11] В других своих письмах Шмелев особое внимание уделяет высокому призванию женщины. В этом смысле он перекликается с «Дневником писателя»: «…Может быть, русская-то женщина и спасет нас всех, все общество наше, новой возродившейся в ней энергией, самой благороднейшей жаждой делать дело и это до жертвы, до подвига» (Дневник писателя. 1877. Декабрь. V. К читателям).
[12] Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений в 30 томах. Т. 30. I. Л., 1988, с. 184–185.
Опубликовано: 14/08/2009