Отче наш
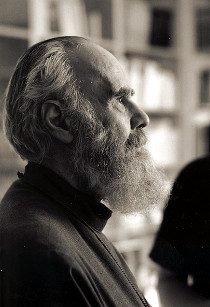 Мне хочется поговорить с вами об одной только молитве, которую мы повторяем каждодневно и которая как бы является центром молитвенной жизни, потому что она нам заповедана, она — единственная заповеданная нам Самим Спасителем Христом молитва. Когда Его ученики спросили Его: как нам молиться? — Он им ответил: молитесь так... — и произнес впервые со дня сотворения мира ту молитву, которую мы называем молитвой Господней, Отче наш (Мф. 6:9—13).
Мне хочется поговорить с вами об одной только молитве, которую мы повторяем каждодневно и которая как бы является центром молитвенной жизни, потому что она нам заповедана, она — единственная заповеданная нам Самим Спасителем Христом молитва. Когда Его ученики спросили Его: как нам молиться? — Он им ответил: молитесь так... — и произнес впервые со дня сотворения мира ту молитву, которую мы называем молитвой Господней, Отче наш (Мф. 6:9—13).
Мы не напрасно ее называем молитвой Господней. Это молитва, которую полностью, до самых глубин мог произнести только Господь и которую мы произносим, которой мы приобщаемся по милости Божией, потому что Он, Христос, является нашим Спасителем и, как Он Сам выражается в Евангелии, Братом нашим. Он Сам сказал женам-мироносицам: пойдите к братии Моей и скажите о Воскресении (Мф. 28:10). Отцом, говоря о Боге Отце, мог назвать Его только Господь наш Иисус Христос, Единородный Сын Божий, Бог Сын. И мог произнести эти слова воплощенный Божий Сын, потому что в Своем человечестве Он никогда не разлучался от полного единства с Богом и Отцом. Богочеловек Иисус Христос мог эти слова произнести полностью и как Сын Божий, и как Сын Человеческий — и в Своем человечестве, и в Своем Божестве.
Но Он заповедал эту молитву Своим ученикам. Мы эту молитву повторяем без колебаний, без сомнений и очень редко задумываемся над тем, каким же образом мы можем эту молитву произносить. Как могли эту молитву произносить ученики Христовы, которые тогда были с Ним не только тесно связаны, но жизнь которых как бы переплелась с Его жизнью, жизнь которых была пронизана Его словом, Его примером, Его жизнью — и это нам не всегда легко понять, потому что они тоже были еще по ту сторону Воскресения Христова, по ту сторону дара Святого Духа. Но Он эту молитву им заповедал, и эту молитву они могли произносить в единстве с Ним, потому что они так были с Ним едины, что когда они молились с Ним вместе, Его молитва охватывала и уносила на небеса их самих и молитву их.
Но как же нам эту молитву говорить? Как мы можем говорить Богу: «Отец наш»? Да, мы знаем, что в Священном Писании говорится, что Бог — Отец всех. В каком-то отношении, да, Бог является Отцом всех в том смысле, что Он всех нас родил к жизни, Он всех нас родил жить, Он всех нас возлюбил такой любовью, что захотел, чтобы мы были и никогда не разлучались с Ним, чтобы были с Ним едины, как Единородный Его Сын. Так что в этом смысле, думая, как Отец относится к нам, мы можем эти слова говорить: Отец наш... Не Создатель просто, а Создатель, который нас призывает к бытию всеобъемлющей любовью: любовью, которая в Сыне Единородном выражается крестной смертью, любовью, которая такова, что мера ей — распятие Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. Да, мы можем Его называть Отцом, когда думаем о Нем и думаем о Единородном Его Сыне, Который нас признает за братьев и за сестер и так нас любит, что всю Свою жизнь и смерть нам отдает, чтобы мы могли поверить в Божественную любовь и спастись этой любовью, Его крестом.
Но когда мы задумываемся о себе самих, где мы себя видим? Когда я задумываюсь над этим, мне представляется евангельская притча о блудном сыне (Лк. 15). Мы все грешны, мы все в какой-то момент нашей жизни — и как часто, увы, как часто! — говорим Богу: я хоть на несколько минут, на несколько часов, на самое короткое время о Тебе забуду, не исполню Твоих заповедей, поживу по своей воле... В этом заключается греховность человеческая, моя, ваша, когда до отчаяния нам хочется чего-то, что идет наперекор с волей Божией, с учением Христа и с той любовью, которая должна бы нас соединять и которую мы отстраняем хоть на время. Это очень страшно, когда подумаешь, что бывают моменты, когда мы выбираем быть не с Богом, а вне общения с Ним.
Кто-то из древних писателей говорит о грехе, что это переход из области Божией в область смерти, в область темных сил. Когда нам до отчаяния хочется что-нибудь сделать, или сказать, или даже в мыслях чем-нибудь греховным насладиться, то в этот момент мы переходим Рубикон, переходим грань. На одной стороне — Бог со всей Его святостью, со всей Его чистотой, со всей Его любовью к нам, со всей Его жертвой крестной, а мы выбираем другую область, потемки, сумерки, потому что нам кажется, что достаточно того, что и там светит сколько-то свет, что мы не в полной тьме, что мы не потеряны, что мы не пропали, что мы не отреклись, что мы не обезбожились. И однако, мы находимся по ту сторону этой грани. Это уже не область Божия, а область, куда Бог вступает ценой воплощения, крестной смерти из-за нас, из-за меня лично.
Надо помнить, что распятие Христово подарено не просто всему человечеству, а каждому из нас. Есть место в житии одного из святых, где говорится, как он молился о наказании грешников, и Христос ему явился и сказал: никогда не молись об этом! Если был бы только один грешник на земле, Я бы стал человеком и умер для него и за него[1]. Это относится к каждому из нас, это не относится к человечеству как таковому, в котором мы могли бы будто скрыться, потонуть, стать незаметными. Нет, каждый из нас стоит явным присутствием, когда переходит в область тьмы, которую избирает. Мы не всегда сознаем, насколько там темно, нам кажется, что просто света чуть меньше, нам кажется: да, мы не такие верные, как могли бы быть, но есть верность в нас, и грех, который мы совершаем словом, делом, помышлением, волей, — не убийственный. Не убийственный? Этот грех является разлукой нашей с Богом, и из-за этой разлуки Христос умер на кресте. Нам порой кажется, что убийственны только большие грехи, страшные поступки, мысли как бы «адские». Это неправда. Малая мысль, малый поступок может нас отделить. Есть немецкое стихотворение, где говорится: люби, всегда люби! Помни, что одно резкое слово легко произнести, и ты его уже забыл, но тот, кому оно досталось, ушел и плачет навсегда[2].
И как бы примером этого мне вспоминается — о, малое событие из последней войны. Когда я был младшим хирургом в армии, в какую-то ночь привезли к нам в хирургическое отделение двух раненых. Один был пробит множеством пуль, и можно было ожидать, что он умрет, но усилиями врачей, сестер он выжил и выздоровел. Одновременно привезли молодого солдатика, который в кабаке заспорил с другим таким же безумцем, тот под пьяную руку стал махать перочинным ножом и разрезал ему главную артерию в шее, его привезли умирающим. И тогда мне вдруг показалось, что пулемет, который был символом неминуемой смерти, оказался менее страшен, чем этот перочинный ножик. Так бывает и с грехом.
Это нам надо помнить, и поэтому нельзя легко относиться к греху. Грех это не нарушение заповедей, это не нарушение правил, это нарушение дружбы. Это момент, когда мы говорим: Твоя дружба мне менее дорога, чем мгновенное мое наслаждение, отойди!.. И в рассказе о блудном сыне мы видим это с разительной ясностью, со страшной ясностью.
Рос в деревне юноша, он был счастливый, но он слышал о том, что происходит в городе, о том, как люди там живут, о богатстве, о буйной жизни, и он возмечтал об этом. Ему стало ясно, что если он сейчас не уйдет, то не успеет насладиться этим, старость придет, прежде чем он будет свободен от домашнего гнета. И он обратился к отцу, как мы читаем в Евангелии, с такими страшными словами: «Отец, дай мне ту долю, которая мне достанется после твоей смерти». Эти слова звучат как бы невинно, просто, но что они значат? Они значат: «Старик, ты зажился. Я молод, во мне кипит жизнь, мне некогда ждать момента, когда ты умрешь и я буду свободен. Сговоримся: что касается меня — ты сейчас умри. Я все возьму, что мне тогда будет принадлежать, и уйду, куда сам захочу, и тебя больше в моей жизни не будет». И каждый раз, когда мы грешим, мы поступаем именно так. Большой ли грех мы совершаем или малый, мы можем опомниться, покаяться, вернуться, но, в сущности, мы всегда говорим: «Отец, дай мне уйти от Тебя, меня влечет другое».
И отец ни словом не прекословит, отец просто отделил сыну то, что ему досталось бы, после того как он сам умрет. Он принял на себя это осуждение смерти, он принял на себя, что с этого дня он для любимого своего мальчика — труп, что его больше нет, что он не нужен, что сын даже и не вспомнит о нем. Он ему все отдал с любовью, ни словом не попрекнул, дал ему уйти.
И юноша ушел, сбросил со своих плеч домашнюю одежду, нарядился в одежду, которая, ему казалось, будет достойна города, ушел попугаем. Пришел в город, у него в карманах звенели деньги, на этот звон собрались люди, он с ними ел, пил, веселился, бесчинствовал и чувствовал себя в центре жизни. Постепенно эти деньги ушли. И когда их не оказалось, он обнаружил, что и друзей нет. С последним грошом исчез и последний так называемый друг, товарищ по попойкам, и он остался один. Ему даже прокормиться было нечем, он искал работы, но никто ему не давал, потому что он был деревенщина, а в городе он был не нужен. Наконец он нашел какого-то мужика, который его послал пасти свиней. А вы знаете, что значит свинья в еврейском контексте: это скверное, оскверняющее животное. Его послали смотреть за животным, которое является осквернением само по себе, и он обнаружил, что и тут трагедия для него: свиньи знают, как найти себе пропитание, а он не знает. И он стал голодать.
И вдруг от голода, от одиночества он вспомнил отчий дом. Там даже работники, там даже рабы, а не то что сыновья, члены семьи жили в достатке. И он подумал: вернусь я домой... В этом сказалась в нем живая искра, потому что он не остановился, подумав: как мне вернуться домой? Меня выгонят после того, как я ушел... Нет, он вспомнил лик отца, он вспомнил любовь, сияющую в его глазах, он вспомнил, что отец его ничем не попрекнул, когда он потребовал: «Умри, и я буду от тебя свободен!», а все ему отдал, может, и благословил на дорогу. И когда он вспомнил об отце, он вспомнил о нем с надеждой, что можно вернуться, что есть куда вернуться. Он не знал, жив отец или умер, но он знал, что можно вернуться. Ему в голову не приходило, что отец мог умереть за это время.
И он пустился в путь. И он шел, далеко или нет, он шел в лохмотьях, он шел с ранеными ногами, он шел голодный, нищий и всю дорогу твердил свою исповедь: отец мой (он его называл отцом в своих мыслях не потому, что тот его родил, а потому что в любовь, какую отец явил, согласившись быть отверженным и не отвернуться от сына, в такую любовь можно было верить), отец мой, я согрешил против неба и перед тобой, я недостоин называться твоим сыном, но прими меня, как одного из работников твоих... Он понимал, что, поступив так, как он поступил с отцом, сыном он себя назвать не мог, он, в сущности, был как бы в мыслях убийцей. Отец оставался отцом, но сын — сыном не был. И когда он стал приближаться к отчему дому, отец его увидел издали.
Сколько раз отец выходил на дорогу посмотреть, не возвращается ли его мальчик, сколько раз он стоял там в ожидании и надежде, что вот-вот издали появится кто-то и, приблизившись, окажется его мальчиком, его сыном. И в этот день отец его увидел и побежал к нему, обнял его, обласкал его. А сын, может, бросился к его ногам, как на картине Рембрандта изображено, а может быть, просто прильнул к нему, положил голову к нему на плечо и плакал, плакал над собой, и плакал благодарными, умиленными слезами. И начал свою исповедь: «Отче, отец мой...» Он почувствовал, он знал: что бы ни случилось в течение прошедших годов или месяцев, этот человек остался его отцом до конца, не судьей, не чужим, а отцом. «Отец мой, я согрешил против неба и перед тобой, я так поступил, что мне нет места ни на небе, ни рядом с тобой, я перешел грань, я ушел в страну далече, как говорится в Евангелии, в далекую страну, не потому что расстояние было велико, а потому что, переступив порог, он оказался бесконечно далеко».
Вы знаете, как бывает: два человека поссорятся, повернутся друг к другу спиной, может быть, они еще чувствуют телесную близость другого, но они смотрят в бесконечные дали, где нет другого. Так он и чувствовал: что он согрешил и против неба, и перед отцом, он отвернулся — и не было ни неба, ни отца больше. А теперь он вернулся. И вот есть отец, но он-то смеет ли себя называть сыном после того, что случилось? Вы же понимаете, что значит быть сыном: это значит быть самым близким, самым родным отцу, это значит его так любить, как он тебя любит, это значит всю жизнь отдавать на то, чтобы быть радостью его и, может быть, честью его, счастьем его; но все это он отверг: «Я недостоин называться твоим сыном»...
И тут отец его остановил, потому что недостойным, грешным, падшим сыном, изменником-сыном этот мальчик мог быть, но достойным рабом, достойным слугой он не мог стать, потому что он не мог перестать быть сыном ни в глазах отца, ни в реальности своей. И отец его стал влечь домой. И все выбежали посмотреть: вернулся наш мальчик. Боже мой! Какой он облохмаченный, голодный, несчастный, и вместе — как он сияет трепетной радостью и надеждой... И отец обратился к слугам и говорит: «Принесите первую его одежду». В западных переводах всегда говорится о лучшей одежде, о самом славном одеянии, какое они могли найти в доме. Но отец не хотел рядить своего сына в одежду, которая ему была чужда, он велел слугам принести первую одежду, ту одежду, которую этот мальчик сбросил с плеч, когда решил переодеться в городского. И когда мальчик надел на себя ту одежду, которую сбросил с плеч с презрением, он вдруг почувствовал, что вернулся домой, что годы, которые он провел вне дома, исчезли, что отчужденность прошла, что он снова стал мальчиком, сыном в доме своего отца. И отец сказал: «Заколите упитанного теленка, мы будем пить, есть, веселиться, потому что этот сын мой был мертв и теперь он живой». Он живой двояко: он живой тем, что вернулся и ему не умирать больше на чужбине, но он еще живой тем, что он переступил обратно грань из «страны далече», из страны греха, из страны отчужденности, из страны зла и вернулся в область очищающей любви, обновляющей любви.
Я все это вам говорю очень долго, но хочу вам передать чрез это вот что. Когда мы говорим Отче наш, мы должны перед собой поставить вопрос. Я — блудный сын, говорящий со своим Небесным Отцом. Где я нахожусь в данную минуту? не в абсолюте, не в существе своем, а в данную минуту: каковы мои вожделения, желания, мечты, где устремленность моя? Устремлен ли я уйти в город? Устремлен ли я ко греху, ко злу, к отчужденности от Бога? Устремлен ли я обратно? Иду ли я с покаянием или с наглой уверенностью, что конечно Отец меня примет, на то Он и Отец. Конечно, мой старший Брат меня примет, не напрасно Он умер на кресте... Ведь наш старший Брат Христос не является тем братом, который описан в притче, Он — Тот, Который жизнь Свою отдал, Которому поручено было Отцом умереть.
И вот когда мы говорим эти слова, Отче наш, мы должны задуматься: где я в этот момент? Говорю ли я Отцу: «Отдай! Ты мне не нужен, я только Твоего хочу». Нахожусь ли я на пути вон из отчего дома, во тьму, чтобы перейти грань, где Отца больше не будет, где я буду свободен от правды, от любви, от чистоты, где моя воля будет царствовать? Где я нахожусь: среди беспутных людей, с которыми я стал единым, или я озираюсь, потому что вижу, что истощается мое богатство? — не денежное богатство в данном случае, а богатство сердца. Или начинаю я видеть, что этого богатства ни бесу, ни злодеям не нужно, и прихожу в ужас от этого, и устремляюсь уйти, и некуда уйти, и остается мне только как-то прозябать, свиней кормить?.. Или вдруг поднимается во мне решимость вернуться к Отцу, покаяться во всем, все Ему сказать, все, все до конца Ему сказать и перенести все последствия, даже изгнание, даже отречение моего Отца от Его Отечества, принятие меня как раба, как наемника? — и я верю, что когда вернусь, то встречу Божественную любовь? Когда мы говорим: Отче наш, произносим первое слово Отче, вот какие мысли, переживания должны в нас быть. Я не хочу сказать, что каждый раз, когда мы произносим эту молитву, мы можем как бы повторять то, что я сейчас говорил, или даже быстрым взором пробежать, но сознание того, где я, мгновенно может подняться в нашей душе. И это очень важно.
Но есть второе слово, на которое я хочу обратить ваше внимание. Христос не сказал нам молиться «Отец мой», Он сказал: молитесь: Отче наш, Отец наш. Не потому что Он просто коллективно Отец всех, а потому что Его любовь, охватывающая всех, держащая всех, нас соединяет, нас делает едиными, нас делает семьей людей неразлучных друг от друга. Неразлучных не потому что мы люди, что мы сотворены Богом, что Он является нашим Отцом и нам некуда деться друг от друга, а потому что мы сознаем, что не я единственный Богом так любим, как блудный сын, которым являюсь на той или другой ступени отпадения или возвращения к новой жизни. Но каждый вокруг меня является таким, каждый человек, знакомый или незнакомый, каждый человек, который мне близок, и каждый человек, который мне чужд, и каждый человек, которого я хотел бы, да, изгладить из своей памяти, каждый человек есть мой брат, потому что является сыном моего Отца, является моей сестрой, потому что она дочь моего Отца, и нет разделений между нами в Его любви. Мы все любимы Им одинаково, равно, той же самой крестной ценой и той же ликующей радостью.
Я вам упоминал уже и не раз о священнике, который был для меня откровением чего-то, чего я не понимал и не знал тогда, и который стал для меня как бы иконой в этом отношении. Молодой тогда священник, тридцати с лишним лет, мне, девятилетнему мальчику, казался «ветхим денми». Одно меня в нем поражало, оставалось совершенно непонятным: он всех нас, мальчиков, собравшихся в летнем лагере, любил неизменной и одинаковой, всецелой любовью. Когда мы были хорошими мальчиками, его любовь была ликованием, когда мы были плохими, его любовь была растерзывающим его душу страданием, болью, но никогда его любовь не переставала быть полной, он всего себя отдавал нам и своей молитвой, и своей заботой, и своей человеческой ласковостью. В нем я позже увидел икону Божественной любви, и до сих пор я его как икону переживаю.
Вот о чем речь идет, когда мы говорим Отче наш: Он — Отец всех нас. Никто из нас не был своим отцу Георгию[3], у него своих детей в лагере не было, но все мы были его дети, любимые его дети, потому что мы были детьми Отца, иконой Которого он являлся своей неизреченной, неописуемой любовью.
И когда мы говорим Отче наш, помимо всего того, что я сказал раньше, мы должны понять, что мы этими словами охватываем всех, всех без остатка. Охватить дальних, незнакомых нам, чужих — нетрудно, а вот охватить ближних, близких, тех, которые рядом со мной, тех, которые мне надоедливы, приставучи, трудны, к которым меня не влечет ничто, которые мне чем-нибудь противны... вы сами знаете, как мы относимся к людям, которые вокруг нас. Вот они-то и являются теми, о которых мы говорим Отче наш: они — Его дети, как я, и кто знает, они, может быть, дети наподобие Сына Божия, тогда как я сын наподобие блудного сына. Кто это знает? Только Бог. И вот когда мы произносим эти слова: Отче наш, мы должны охватить всех.
И когда мы думаем, стараемся продумывать это первое слово: «Отче», и переходим на «наш», мы должны остановиться и подумать о именах всех тех людей, которых мы можем вспомнить. Вспомнить любимых — легко, отрадно, забыть нелюбимых — легко, отстранить ненавидимых — тоже легко бывает. И вот тут надо себя победить. Надо победить свое чувство к тем людям, о которых мы думаем: если б только его на свете не было! Если бы только он выпал из моей жизни — не смертью, а просто уехал, переехал куда-нибудь, если я мог бы его забыть!.. Но забыть нельзя. Человек, который тебе встретился, встретился с тобой навсегда, на всю вечность, а может быть, главное, на все время твоей земной жизни. Никуда не уйдешь от него. Всплывет о нем память рано ли, поздно ли, всплывет, и тогда тебе надо задуматься: где я стою, каково мое отношение к нему.
Я вспоминаю разговор с одним священником на смежную тему, который мне говорил о том, что когда стареешь, поднимаются в твоей памяти воспоминания, имена, лица, поступки. Иногда тебе страшно, отвратительно делается от того, что ты вспоминаешь, ужасаешься тому, что ты мог совершить. И думаешь: что же я могу сделать? Ты можешь покаяться, ты можешь обратиться к этому человеку в молитве и сказать: прости меня — я тебя ненавидел! Прости меня — я от тебя отворачивался! Прости меня — я тебя знать не хотел! Прости меня — я только и мечтал о том, чтобы тебя не стало ни в этой жизни, ни в будущей. Ты меня прости!.. Если мы можем это сделать до конца, до глубины души, то прощение приходит. Если же нет, мы можем умолять того человека, перед которым мы так страшно виноваты, о том, чтобы он помолился о нас и спас нас от этого, чтобы он стал одним из тех, кого мы называем «нас».
Я вам уже давал когда-то этот пример, но повторю его, потому что в этом контексте он горит во мне. Я как-то исповедал одного старика, замечательного, дивного человека, который после исповеди сказал: «Отец Антоний, я хочу с вами поговорить об одной вещи, которую я не хотел упоминать на исповеди, потому что я ее упоминал годами, годами и не получил никакого ответа». Мы сели, и он мне рассказал, что когда он был молодым офицером в Белой армии, когда шли бои на Перекопе, в их отряде была сестра милосердия, которую он глубоко, всей душой любил и которая его также любила. Они решили, что когда кончится этот ужас Гражданской войны, они поженятся и начнется настоящая жизнь. Началась перестрелка, эта девушка не вовремя высунулась, когда он стрелял, и он ее застрелил, он ее убил, убил свою любовь, чистую, светлую любовь. После этого он никак не мог прийти в себя. Он исповедовался, но ни в словах священника, ни в разрешительной молитве утешения не получал. Ему советовали давать милостыню в память ее, он давал милостыню, но боль, ужас этого воспоминания горели в нем. Ему советовали молиться, и он молился, и каялся, и все равно ничто не случалось. И он ко мне обратился с вопросом: что же мне делать?.. Я был тогда молодым священником, неопытным и ответил по безумию своему, но вместе с этим по Божию наставлению. Я ему сказал: «Ты каялся священнику, которому ты не сотворил никакого зла и который без труда мог прочесть над тобой молитву о прощении твоих грехов, ты молился Христу, Которого ты не убивал прямо, хотя убил любимого Ему человека. А молился ли ты Маше о том, чтобы она тебя простила, и чтобы, если она тебя простила, она помолилась Христу о том, чтобы тебе был дан мир?». Он так и поступил; он поверил моему неопытному слову, и через некоторое время, когда я его увидел, он мне сказал: «После нашего разговора я остался один, сел в кресло и по вашему совету Маше вслух все рассказал, рассказал о нашей любви, которая никогда не умерла, хотя прошло много лет, я ей рассказал, что представляли собой годы этой адской муки о том, что я ее убил, и кончил тем, что сказал: „Если ты меня смогла простить, умоли Христа, чтобы Он ниспослал мир в мое сердце“, и затем замолк. Я сидел, и вдруг в мое сердце влился такой мир, какого я никогда не переживал даже после причащения Святых Даров. И я понял, что она меня простила, что нас ничто больше не разделяет, и что Христос меня простил, и что мы теперь едины».
И тут я еще хочу прибавить одно. Не так давно я разговаривал с одним человеком. Я его спросил, изжил ли он скорбь о смерти жены. И он на меня посмотрел сияющими глазами и сказал: «Знаете, мы жили душа в душу, но нас было двое. Когда она умерла, мы продолжаем жить душа в душу, но мы стали одно».
Отче наш, Иже еси на небесех...
На этом я кончу свою беседу. Если еще будет случай, я продолжу размышления о молитве Отче наш, но это я хотел вам передать, потому что оно мне кажется так краеугольно, важно и значительно.
Опубликовано: 08/08/2014