Встреча с Богом Живым
[1] [2] [3] [4]
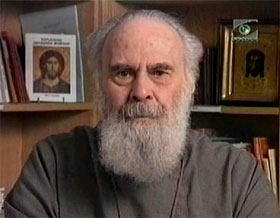 Мы начнем наши беседы с разговора о вере. Веру связывают обычно с понятием религии. Но вера — понятие гораздо более широкое. Она определяется в Священном Писании, в Послании к Евреям, как уверенность в невидимом (Евр. 11: 1). И можно сказать, конечно, что так как Бог невидим, неосязаем, то в первую очередь понятие веры относится к Нему. Но есть другие вещи, в которых мы так же твердо и ясно уверены, как верующий уверен в существовании Бога.
Мы начнем наши беседы с разговора о вере. Веру связывают обычно с понятием религии. Но вера — понятие гораздо более широкое. Она определяется в Священном Писании, в Послании к Евреям, как уверенность в невидимом (Евр. 11: 1). И можно сказать, конечно, что так как Бог невидим, неосязаем, то в первую очередь понятие веры относится к Нему. Но есть другие вещи, в которых мы так же твердо и ясно уверены, как верующий уверен в существовании Бога.
Мне пришлось раз стоять в ожидании такси около гостиницы «Украина». Ко мне подошел молодой человек и говорит: «Судя по вашему платью, вы верующий, священник?» Я ответил: «Да». — «А я вот в Бога не верю...» Я на него посмотрел, говорю: «Очень жаль!» — «А как вы мне докажете Бога?» — «Какое доказательство, какого рода доказательство вам нужно?» — «А вот: покажите мне на ладони вашего Бога, и я уверую в Него...» Он протянул руку, и в тот момент я увидел, что у него обручальное кольцо. Я ему говорю: «Вы женаты?» — «Женат». — «Дети есть?» — «И дети есть». — «Вы любите жену?» — «Как же, люблю». — «А детей любите?» — «Да». — «А вот я не верю в это!» — «То есть как: не верю? Я же вам говорю...» — «Да, но я все равно не верю. Вот выложите мне свою любовь на ладонь, я на нее посмотрю и поверю...» Он задумался: «Да, с этой точки зрения я на любовь не смотрел!..»
Если развить понятие веры как внутреннего опыта, тогда можно прийти к заключению, что вера — нечто гораздо более широкое, чем просто религиозное понятие. Я люблю кого-то или кто-то любит меня; какое этому можно искать доказательство, как можно на ладони показать любовь?.. В продолжение того разговора этот молодой человек мне сказал: «Да ведь я могу вам доказать свою любовь к жене: я ей подарки делаю; я ее и детей содержу!..» Я возразил: «Это не доказательство вашей любви. Это может просто означать, что вы боитесь жены или что общественное давление вас к тому побуждает, но ваши поступки не свидетельствуют обязательно о любви».
В том же порядке можно говорить и о других вещах. Например: нет человека, который не отозвался бы на картину, на музыкальное произведение, на красоту природы, и не воскликнул бы: «Как это прекрасно! Какая красота!..» А докажи эту красоту!? Нельзя разложить красоту на линии и краски; ведь само сочетание этих красок и этих линий не обязательно создает красоту. Когда мы видим закат или восход солнца и восклицаем: «Какая красота!» — мы не можем ее объяснить. То же самое происходит и с музыкой: мы вслушиваемся в музыкальное произведение, которое нас уносит куда-то в глубины нашего сознания, в глубины нашего естества, бытия; и мы его переживаем как красоту. Таким образом, мы приобщаемся этой красоте, красота до нас доходит как переживание, как наш личный внутренний опыт. Так же и любовь. Мы любим человека не за что-нибудь, мы любим его не потому, что он особенно красив, умен, талантлив; мы любим его потому, что от него идет как бы излучение, нечто, что нас пленяет; мы смотрим на человека и видим в нем красоту И вот этот опыт любви, красоты, который раскрывается нам и в музыке, и в живописи, и в природе, — он-то и называется верой на языке Послания к Евреям, написанного еще в I веке христианской эры. Это уверенность, но основанная не на том, что можно что-то доказать, чего-то коснуться рукой или увидеть, — это непосредственный, прямой опыт. И вот над этим стоит задуматься, потому что если мы переживаем любовь, природу, искусство и наш религиозный опыт как возносящую нас красоту, приобщаясь которой мы становимся глубокими, чуткими, новыми, то можно сказать, что за этим переживанием есть какая-то истина, какая-то реальность. Во всяком случае можно поставить вопрос о той реальности, которая стоит за переживанием.
Истину я определил как реальность. Отец Павел Флоренский[1] в одном из своих произведений говорит, что слово «истина» происходит от слова «есть», от глагола «быть»; истина — то, что на самом деле есть. В таком смысле истина — это предельная реальность. Когда мы говорим, что верим, веруем, мы имеем в виду, что уверены в существовании какой-то конечной реальности. Эта реальность, как я уже говорил, может раскрываться искусством, природой, любовью, но это может быть реальность, раскрывающаяся внутри нас как религиозный опыт, как опыт о том, что существует Бог.
Здесь надо поставить вопрос о том, что мы хотим сказать, когда употребляем слово «Бог». В славянском языке это слово может происходить от двух корней. Либо от древнего санскритского слова bhaga, что значит «богатый», тот, кто всем обладает, кому ничего не нужно сверх того, что у него есть; тот, кто настолько богат своим собственным содержанием, своим бытием, что может не только без жадности, но с совершенной открытостью относиться ко всему внешнему и все отдавать, потому что ему ничего не жалко. Или можно производить слово «Бог», как это делает Хомяков[2], от глагола «быть»: Бог — Тот, Который есть, Тот, Который не создан (можно было бы прибавить: не выдуман), а существует самобытно, в реальном, неизменном, хотя живом, трепещущем бытии. Это Тот, о Котором Ветхий Завет говорил: Он — Сущий, Тот, Который есть. Эти же слова Спаситель Христос применил к Себе Самому в Евангелии. И очень важно понять, что когда Христос говорит о Себе, Он говорит о Себе как о человеке и о Себе как о Боге. И вот первое понятие: Бог — Тот, Который есть; Он — Тот, Кто есть само бытие. Он. является полнотой бытия, полнотой жизни ликующей, торжествующей; Он вседовольный (не в современном смысле слова, что Он «доволен», а в том смысле, что у Него нет недостатка ни в чем, Он имеет полноту всего), Ему ничего не «нужно». Он ничего и никого, никакой твари не захочет отнимать, потому что является любовью, то есть торжеством жизни, природа которой заключается в том, чтобы отдавать себя — бесконечно, безгранично, вечно, всегда — всякому, кто может в этом нуждаться.
И есть еще другое понятие за этим словом, уже в германских языках. God в английском, Gott в немецком происходят от древнегерманского корня, означавшего: Тот, перед Которым падаешь ниц в почитании, перед Которым преклоняешься с трепетом. То же самое мы находим и в древнегреческом языке. Слово Феос, Бог, происходит от корня, означающего именно это чувство священного ужаса, которое приводит нас к коленопреклоненному почитанию Бога. Таким образом, говоря о Боге, первое, что мы должны отметить: Бог является нашим первичным опытом, а не образом из наших мечтаний, не сверхчеловеком: Бог нас превосходит и воспринимается нами с такими чувствами, как священный ужас, неописуемая радость, любовь. И в этом отношении определения Бога в древних языках очень значительны, потому что в этих языках, будь то санскритский, готский иди древнегреческий, Бог не описывается; не делается никакой попытки сказать нам, каков Он, а говорится только о том, что с нами случается в тот момент, когда мы оказываемся лицом к лицу с Живым Богом, как мы бываем охвачены благоговением, и поклоняемся Ему, и преклоняемся перед Ним.
Есть другой корень на том же греческом языке, который нам указывает, что греки (как и мы, христиане, как и мусульмане, как и все верующие) признавали Бога Творцом, тем, кто создал весь мир, кто является источником всего. Это можно понимать различно. Для нас, христиан, Бог — единственный в Своем роде, и акт творения, акт любви Божией, есть акт воли Божией в том смысле, что Он вызывает к бытию все, что существует. Но действует Он не как властелин, который приказывал бы всякой твари явиться пред его лицо, а как любящий отец, и даже лучше бы сказать: как живая Любовь, которая зовет тварь к бытию для того, чтобы приобщить ее к собственной жизни, к собственному ликованию и торжеству, к собственному таинству любви.
Но — мы знаем, каков этот мир, сколько в нем страдания, как он бывает жуток, как смерть косит в нем все. И можно поставить вопрос: как же Бог, о Котором христиане говорят, что Он является Любовью, мог создать мир такой безобразный, такой страшный? Неужели Он его создал и потом почил от дел Своих в ожидании, что будет дальше? Хуже того: в ожидании, что в какой-то момент Он нас — которые не просили Его создавать их — будет судить за то, какими мы оказались. Такой Бог был бы страшен. Перед Ним можно было бы преклониться как перед властелином, но любить Его было бы нельзя; больше того: такого Бога ни я, ни вы не могли бы уважать. Но Бог, Который Своим державным словом любви вызвал к бытию все, что есть, взял на Себя ответственность за Свой творческий акт, за Свое решение создать мир и предоставить этому миру свободу самоопределения. Бог взял на Себя ответственность тем, что в какой-то момент истории, в тот первый день, с которого начинается христианская эра, времена христианские, Сам Бог стал человеком и, не приобщаясь злу, живущему и действующему в нас, приобщился всем последствиям этого зла, всему страданию, всему ужасу мироздания, и самому последнему из ужасов — потере Бога и смерти. Бог призвал человека к жизни не с тем, чтобы когда-нибудь человек предстал перед Ним с ответом: Он поручил нам мир, Им Самим созданный, открыл нам творческую возможность сделать из этого мира чудо красоты, гармонии, правды. Но когда человек уклонился с этого пути, пошел своими путями эгоизма, жадности, страха, нелюбви и т.д., то Бог стал человеком. Мы верим, что Иисус Христос, родившийся в Вифлееме, проповедавший на Святой земле, распятый после неправедного суда и воскресший, был действительно Сам Бог, вступивший в этот мир для того, чтобы разделить с нами все последствия Своего творческого акта и того, что мы сделали с этим миром, который Он нам доверил.
Встает вопрос: каким образом человек может одновременно быть Богом, каким образом две природы могут взаимно пронизать друг друга, каким образом всемогущий Бог может стать хрупким человеком? Тот, Который бесконечен, вечен, может вступить в конечность, временность нашего мира? Я думаю, что одна из самых убедительных картин, один из самых убедительных образов был дан в свое время святым Максимом Исповедником[3].
Он говорит, что соединение человека и Бога, Божества и человечества во Христе можно уподобить соединению огня и железа при закаливании меча. Мы вкладываем меч в огонь — холодным, серым, без блеска, а вынимаем — горящим огнем. Что же случилось? Жар пронизал железо так, что, по слову Максима Исповедника, теперь можно резать огнем и жечь железом. Если не представлять Бога существом физически нам подобным, тогда мы можем так думать о воплощении. Мы можем думать, что Бог, Который невещественен, соединяется с веществом именно так, как жар соединяется с железом или как в нас проникает тепло, когда мы входим в дом с мороза. Тепло остается теплом, мы остаемся человеческой плотью, но она теперь живая, гибкая, трепетная, совершенно иная, она ожила. И вот в это мы верим. Таким нам представляется Господь Иисус Христос — человек во всех отношениях, имеющий и душу, и ум, и сердце, и волю, и плоть, но человек, который всецело, до конца, до самых глубин, без остатка пронизан Божеством, стал тем, чем всякий человек призван стать — Богочеловеком, Потому что человек призван не к тому, чтобы быть просто одной из животных тварей, пусть даже самой замечательной; человек призван перерасти свою тварность через общение с Богом, через соединение с Ним так, чтобы вся Божественная жизнь влилась в него, чтобы стать причастником Божественной природы. Мы призваны быть вождями того мира, который Бог создал, чтобы, по слову апостола Павла, Бог стал все во всем, то есть мы призваны привести всю тварь к Богу, через свое тварное творчество соединить всю тварь, все творение с Богом так, чтобы все было пронизано Божеством, все воссияло вечностью.
В этом смысл слов Ветхого Завета, начала книги Бытия, где говорится, что Бог, сотворив мир в шесть периодов (которые в Библии условно называются днями), на седьмой день почил от Своих трудов. Значит ли это, что Он просто покинул этот мир, забыв о нем, не обращая никакого внимания на его судьбу, как бы пустил его в ход, ожидая, что мир сам каким-то образом устроится? Нет; я думаю, что именно в этот седьмой день человек вступает в свою творческую деятельность. Седьмой день — это весь период истории от момента, когда завершено творение, когда человек совершен, сотворен, поставлен в сердцевине мироздания, и до дня, когда в конце времен будет суд. О суде мы будем говорить отдельно, но сейчас мне хочется сказать об этом творчестве.
Может быть, свойство человека, яснее всего делающее его родным Богу, это творчество, способность творить. Этот мир, который был создан как бы в невинности, в котором были заложены все возможности добра, отдан человеку так, как можно отдать ему участок земли и сказать: почва богата, плодородна, у тебя крепкие плечи и руки, плуг в твоих руках, — сделай из этой почвы поле или сад по своему разумению, согласно своим творческим способностям... И человек должен был этим заняться. Максим Исповедник говорит в своих писаниях, что человек принадлежит двум мирам: с одной стороны, он взят из земли, то есть является как бы последним звеном земного творчества Божия, но, с другой стороны, Бог вдохнул в него жизнь — причем не просто животную жизнь, но то дыхание жизни, как говорится в Библии, которое его делает способным познать Бога, полюбить Его, прислушиваться к Нему, входить в гармонию с Ним. И вот потому что человек был создан таким, он может все земное приобщить к духовному, и в конечном итоге — к небесному и Божественному. Это задача человечества. Мы этого не совершили, мы заблудились на нашем пути, но эта задача остается перед нами. Мир, который мы создали — безобразен, ужасен. Вы помните, наверное, слова русской пословицы: неурожай от Бога, а голод — от людей. Да, неурожай может быть результатом различных внешних событий, а голод зависит от того, что человек по отношению к человеку бывает бесчеловечен. И это бывает часто, а в наше время так страшно проявляется!
Наша задача в том, чтобы вернуться к первоначальному замыслу Божию; и Сам Бог вошел в этот мир, чтобы возглавить наше творчество. Мы можем у Самого Бога научиться, как человеку надо жить, потому что Бог в лице Иисуса Христа стал человеком и нам показал, как живут, или, вернее, как может жить человек, который достоин своего человеческого звания. И это один из самых вдохновляющих моментов Евангелия: нам показана не только любовь Божия — нам показано величие человека, показано, что человек может вырасти в меру Божественности и через это стать способным все, Богом созданное, привести к той полноте, к которой оно призвано.
Но на пути к этому стоит очень страшная вещь: свобода, человеческая свобода, и это нам надо продумать. Свобода может быть или творческой, спасительной, или гибельной. Она может быть произволом или освобождением, в зависимости от того, как мы ее определяем.
Казалось бы, над значением этого слова и задумываться не надо: быть свободным — это иметь право и возможность делать, что хочу Однако такой свободы вообще на свете нет. Ее нет ни биологически, ни общественно, ни политически, ни в отношениях с людьми. Биологически мы можем быть только тем, чем мы рождаемся: человеком того или другого рода, нации и т.д. Общественно мы тоже в значительной мере определены, а о политическом ограничении и говорить нечего. В каждой стране есть какие-то очень ясные границы; они могут быть страшно узкие и подавляющие или более широкие, но всегда где-то кончается наше право делать то, что нам хочется. В чем же тогда свобода? Если я не моту делать то, что хочу, если я биологически, психологически, общественно и политически во всех отношениях обусловлен, где же может быть речь о свободе? И вот мне хочется задуматься вместе с вами над значением этого слова. Мои размышления могут показаться некоторым из вас странными, но иногда приходится, задумываясь над сложными вещами, подходить к ним с непривычной для нас стороны.
Я начну со слов, которые мы употребляем, обозначая свободу. Первое слово — латинское libertas. Для нас теперь те слова, которые исходят из этого корня, значат почти что произвол, во всяком случае — огромную долю самоопределения. Но в древнем Риме слово libertas означало, с точки зрения и закона и практики, положение свободнорожденного ребенка в отчем доме. Он был свободнорожденный, то есть не раб, с точки зрения государства и общества; но что касается домашнего быта, он был во всем подчинен отцу. Свобода, которая дает человеку возможность распоряжаться, владеть обстоятельствами и собой, приобретается трудом, дисциплиной. Поэтому в отношениях отца и сына была строжайшая иерархия: отец учил сына и физически и душевно и умственно быть хозяином своего тела и судьбы; а это дается не произволом, а настоящей тренировкой. Апостол Павел, говоря о подготовке подвижника, указывает, что такая подготовка подобна тренировке атлета, спортсмена. Вот такой тренировке, душевной и физической, и подвергался свободнорожденный ребенок ради того, чтобы в свое время он мог занять в обществе ответственную и творческую позицию. Поэтому право на свободу от рождения не означало права помыкать всеми окружающими. И тут с понятием свободы соединяется то, чего, казалось бы, меньше всего мы ожидали бы, а именно — послушание.
[1] Флоренский Павел, священник (1882-1943) — ученый-энциклопедист, богослов. Погиб в лагере.
[2] Хомяков Алексей Степанович (1804-1860) — русский религиозный философ, публицист, поэт, основатель славянофильства.
[3] Святой Максим Исповедник (ок. 580-662) — один из наиболее глубоких богословов Восточной Церкви. Исповедниками именуют тех, кто перенес гонения и страдания за веру, но не был казнен.
[1] [2] [3] [4]
Опубликовано: 15/09/2008